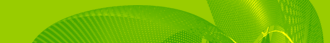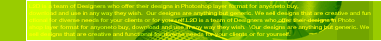* * * * *
В 2005 году грянула так называемая «Оранжевая революция». Как и всякая революция, оранжевая вылилась в первую очередь в торжество уличной черни. На площади Свободы в Херсоне стали нередкими митинги, на которых слышались бандеровские коломыйки и возгласы типа: «Разом нас багато – нас не подолати!», «Мы не быдло, мы не козлы!». Речёвки насчет быдла и козлов повторялись так часто, что всякий здравомыслящий человек, находившийся поблизости и слышавший всё это, уже раз десять усомнился бы в истинности сказанного…
По улице Ушакова бродили толпы «революционеров» в поисках выпивки, закуски и девочек. Одна из таких «тёплых» компаний вломилась в здание Областного управления культуры и убила ударом арматуры по голове сторожа. Его кровь ещё несколько дней была видна на асфальте поблизости от управления.
По телевизору тогда началась истерия по поводу украинско-американской дружбы и угроз со стороны «Империи Зла» – России. Сразу стало понятно, что «Оранжевая революция» это мероприятие заказное и организованное на американские деньги. Многие здравомыслящие люди относились ко всему этому резко отрицательно.
В 2005-2006-м годах я работал в херсонской средней школе № 9. Вопреки прогнозам моего вузовского преподавателя Недзельского история меня тогда кормила. Я читал историю Украины и историю всемирную на заменах в классах, а также детям, у которых вёл домашнее обучение. Кроме того, мне доверили вести мировую литературу и украинский язык и литературу.
Учительская лямка была для меня очень трудной. Мне пришлось работать классным руководителем в 7-м В классе (который славился своим бандитским контингентом), и, следовательно, бороться с хулиганами, уголовниками, двоечниками и всеми прочими субъектами, для которых занятия в школе являлись только лишней обузой.
Согласно строго определённому расписанию я ходил по домам к больным детям. Как правило, они страдали детским церебральным параличом. ДЦП – заболевание страшное. Мне хотелось помочь моим воспитанникам преодолеть болезнь хоть немного. Некоторые из них учиться любили и достигали определённых результатов (у кого ДЦП был в лёгкой форме), но большинство к знаниям были глухи…
Как-то мы с Наташей зашли в гости к Александре Николаевне Доррер (это было в 2005-м году). Я представил мою супругу графине. Александра Николаевна нас попотчевала простым, но вкусным, и что самое важное, преподнесенным от чистого сердца, угощением. Мы накануне купили на улице Суворова две разновидности пирожных, так что в долгу перед ней не остались.
Хозяйка дома рассказывала нам о своих предках. Я эти истории, конечно, давно знал, но для Наташи они были новыми.
– Вот, как Дорреры получили свою фамилию, – начала графиня. Жил в XVII веке такой французский дворянин – де Меронвиль. Он нанялся на службу к Германскому императору в качестве генерала. Император приказал де Меронвилю подавить восстание кровавых бунтовщиков, бушевавшее тогда в одной из провинций Германии. Француз блестяще справился с этим делом. Он наголову разбил армию мятежников и восстановил мир в государстве. Император поблагодарил своего генерала за службу и наградил его графским титулом и новой фамилией – д*Оррер, что в переводе с французского означает «ужасный».
Ещё Александра Николаевна поведала, что во время революции в одном из имений её предков (кажется в Бессоновке) квартировали латышские стрелки. Это были очень страшные люди. Она слышала их разговоры. Умереть от страха и ужаса можно было только слушая, что они говорят, а уж, если они начинали кого-то мучить или убивать…
– А ещё прибалты предъявляют нам претензии, что это, мол, мы – русские – принесли им на своих штыках советскую власть, а сами-то, что творили, – заметил я.
– Так вот и я о том же, – сказала Александра Николаевна.
Мы разговаривали на самые разные темы. Поскольку Наташа была художницей, а Александра Николаевна историком изобразительного искусства, они нашли много интересных тем для светского разговора.
Александра Николаевна дала мне почитать сборник прозы Татьяны Толстой «День и Ночь». В нём я наткнулся на множество мудрых мыслей об искусстве и о советской школе. С идеями, высказанными Толстой, я был полностью согласен.
Простились мы с графиней Доррер очень хорошо, явно по-дружески. К сожалению, это был один из последних моих приходов в её дом. Потом Александра Николаевна стала себя очень плохо чувствовать, и я перестал бывать у неё.
Во время наших встреч мы с Наташей беседовали на различные интересные темы. Очень часто разговоры касались вопросов литературы. Помню, одним зимнем вечером, напившись горячего чая и укрывшись по теплее одеялами, мы говорили о судьбе современных талантливых поэтов, об их непризнанности в социуме. Я говорил ей примерно следующее. В человеческом обществе очень многое обусловлено маразматическими стереотипами. Во всём побеждает принцип «кто сильнее, тот и прав». Раньше я считал, что господствующее положение в своей профессии занимают наиболее талантливые и компетентные личности. Но на самом деле, это оказалось не так. Чтобы сделать карьеру, получить поощрения по службе, надо быть сильным и подлым субъектом. Например, в искусстве звание заслуженного деятеля получает не тот, кто лучше поёт или танцует или пишет стихи, а тот, кто живёт в столице, кто чаще показывается на телевиденье, чаще ездит на гастроли, кто легче может понравиться министру культуры или президенту страны. Пробивной, умеющий «работать локтями», умеющий себя подать – вот типичный «успешный», «востребованный» художник. Если же, автор не идёт по трупам на карьерный Олимп, а тихо и скромно самосовершенствуется, постигая глубинные премудрости своего ремесла, он в глазах общества не выглядит «успешным», и обречён на жалкое прозябание. Кто сумел сделать себе имя, тот и гений, причём, совершенно безотносительно к объективным способностям автора. На литературных конкурсах зачастую соревнование идёт не между талантами и бездарями, а между биологически сильными особями и биологически слабыми. Любое литературное (и не только литературное) состязание легко можно переименовать в бои бес правил, в которых побеждает не самый талантливый автор, а самый агрессивный и наглый самец (или самка). Но люди-то думают, что победил достойнейший. Так и возникают в сознании профанов «гениальные» малевичи и шагалы и «бездарный» Айвазовский. Так подсознание, имеющее животную природу, побеждает сознание, имеющее сущность человеческую. Происходит обман, который сознание не улавливает. Возникает роковая подмена понятий. Человеческая психика, как известно, имеет такие слои, которые самим человеком не осознаются. Полагаю, что важнейшей миссией каждого умного и интеллигентного человека, живущего в этом мире, является познание самого себя. В первую очередь, познание своих явных и скрытых способностей и социальных законов, по которым живёт человеческое общество. В истории литературы существует немало посредственных авторов, которых толпа объявила гениями, ведь они сумели навязать себя ей. Есть много и таких, кто широко не известен, хотя и пишет прекрасные стихи. Для толпы они никто. Беда в том, что люди, имеющие низкую литературную компетенцию, смеют судить о качестве стихов. Они путают субъективную категорию – именитость и объективную – уровень литературных способностей. Преднамеренно или не преднамеренно они грешат против истины. Истина же от этого и страдает. До тех пор, пока люди будут относиться к ИСТИНЕ не как к Её Величеству Королеве, перед которой надо трепетать и благоговеть, а как к гулящей девке, которую можно безнаказанно унижать, до тех пор они не поймут глубинной сущности искусства. Чем выше человеческая особь будет возносить своё неоправданно распухшее эго, тем глубже она будет опускаться в пучину собственной подлости и скудоумия.
С моими доводами Наташа, разумеется, соглашалась.
Наташа в те годы была для меня всем: смыслом жизни, объектом поклонения и почитания, источником всех самых счастливых, радостных и необыкновенных переживаний. Она дала мне величайшее наслаждение, какое только может дать женщина мужчине: наслаждение властвовать над таким существом, как она – женственным, волевым, разносторонним. Когда гордая, знающая себе цену, талантливая женщина-личность подчиняется тебе – всего лишь смертному мужчине – это порождает в мужской душе такие разносторонние и сложные, но всегда восхитительные чувства, что и словами передать их трудно. Когда она была моей, когда она в моих руках таяла и становилась безвольно-привязчивой, я чувствовал свою величайшую избранность среди людей, свою ответственность за судьбу этой хрупкой и пленительной женщины; я ощущал себя Богом, во власти которого находится целая Вселенная со всеми её необитаемыми и обитаемыми планетами, населёнными разумными и причудливыми существами, со всеми её звёздами, метеорами и млечными туманностями. Я осознавал себя властелином многих загадочных, непостижимых и прекрасных миров, ключ от которых находится в моих руках. Наташа была для меня Царицей всего великолепия этого Мира и Мира того, потустороннего… Её личность была метафорическим выражением и прелести цветов, и благоухания трав, и величественности деревьев, и красоты грациозных зверей и птиц, населяющих нашу планету. Она была для меня и северным сеянием, завораживающим взор путника во время полярной ночи, и бездонным бирюзовым небом экваториальных широт, и прозрачностью родниковой воды, и терпкостью запаха хвои, и теплом нашего золотого Таврического солнца. Ах, как я был сказочно счастлив, какое получал волшебное удовольствие, когда чувствовал рядом с собой запах и тепло её утончённо-женственного и младенчески-чистого тела! Запах женщины… Какую нежность, какую заботливость, какое умиление вызывает он в мужском сердце! Как же хочется отдать всего себя без остатка ради счастья и благополучия этой бесконечно родной, любимой и желанной мною женской души! Сколько же восторга и трепета, восхищения, любования и чувства прекрасного вызывала во мне Наташа! Как же я расцветал душой, когда она была рядом, когда она была моей…
Мы с Наташей каждые выходные встречались у неё дома. Мы разговаривали с нею на разные темы. Как правило, наши разговоры почти всегда были связаны с поэзией, литературой, историей, интересными и малоизвестными фактами из жизни различных знаменитых художников и поэтов. Я рассказывал ей о трагической и страшной судьбе Марины Цветаевой, о причудливых казусах биографии Шевченко, о загадочной смерти Лермонтова. Она мне – о живописи, о различных художественных направлениях и техниках письма. Конечно, очень часто наше общение крутилось вокруг чисто бытовых вопросов: о том, где взять денег на водяной счетчик, на новую шубу для моей супруги, кто должен чистить картошку на ужин, выносить мусор, выгуливать собаку. Тогда я жил абсолютно настоящей семейной жизнью, со всеми её прелестями и тяготами.
В литературном клубе «Млечный Путь» в старые добрые времена мы собирались по нескольку раз в месяц. На заседаниях читали друг другу стихи. Потом делали профессиональный разбор. Наташа всегда очень высоко ценила меня как поэта. Особенно на первых порах наших с ней отношений она не уставала подчёркивать, какой я талантливый и даровитый автор. Члены клуба, конечно, тоже очень положительно относились к моему творчеству. Как Наташин муж, я стал, чуть ли ни сопредседателем клуба. Со мной очень советовались, если решался в «Млечном Пути» какой-либо важный вопрос. Иногда клубные литераторы устраивали маленькие турниры – или поэтические, или на умение владеть логикой. Иногда мы даже соревновались в остроумии, рассказывая друг другу анекдоты. Иной раз за анекдоты сходили и комичные случаи из жизни, благо недостатка в них не было. Например, Юра Несин однажды рассказывал, какими словами в Гуцулии заменяют украинскую литературную лексику.
– Велосипед, – говорил он, – по-галицки означает «ровер», вертолёт – это «геликоптёр», шприц – это «штрыкалка», а коробка передач – «скрынька лязгунив»…
После заседания клуба все расходились по домам. Если было лето, то мы с Наташей ещё гуляли по исторической части Херсона. Зимой, иногда, я и Наташа вместе с четой Барболиных шли в близлежащую от Областного Дома Учителя, где проходили заседания клуба, кафешку. В кафе мы сидели часа полтора-два: беседовали, общались на разные темы, ели пельмени со сметаной и чёрным перцем и запивали всё это коньяком. Такими уютными, радостными, интересными были эти посиделки… Находиться в кругу близких тебе по духу людей – наверное это и есть настоящее счастье!
Иногда, на таких посиделках я давал волю фантазии, и начинал Саше Барболиной рассказывать какие-то почти сказочные истории, имеющие философский подтекст. Я говорил ей, например, о том, что жить интересно, повествовал о вечной жизни.
– Жизнь – штука очень трудная, тяжёлая, порой скорбная и жестокая, но и у неё есть свои положительные стороны, – говорил я, – она интересная. Интересно жить, постоянно познавая мир, обнаруживая, как он устроен. Мне интересно познавать новое. Это разносторонняя любовь к знаниям, в том числе и научным. Помнится, очень интересно было учиться в университете. Там преподаватели постоянно давали что-то новое. Мне нравилась стройность той информации, которая там излагалась. Есть некая прелесть в стройности и упорядоченности. Эта прелесть сродни красоте старинного величественного собора, все формы и линии которого гармоничны, математически выверены и овеяны Божественным вдохновением зодчего. Приятно что-либо исследовать, потом осмысливать информацию, полученную в ходе исследования, потом излагать её на бумаге в соответствии с определённой идеей. А ещё, думаю, это тоже положительное свойство жизни, она в конце концов заканчивается… Жить можно было бы вечно, если бы жить можно было всё время хорошо, а когда живёшь трудно, тяжело, то не всегда хочется длить всё это бесконечно долго (да и к тому же, жизнь – штука довольно-таки абсурдная временами, а это плохо… ). Да, и потом, вот смотри: умер от старости твой муж, умерли от старости твои дети, потом также внуки, потом правнуки, а ты всё живёшь. Потом на свете не осталось не одного твоего близкого родственника – все твои потомки в 10-м колене тебя уже не знаю. Меняется мир, причём стремительно, неузнаваемо. Проходят столетия за столетиями, а ты всё живешь. Ты помнишь то время, которое с трудом знают историки. Ты помнишь себя и этот мир две тысячи лет назад, потом три, четыре… Тебе самой уже давно кажется, что ты попала в какой-то заколдованный мир, в котором время бесконечно, оно не кончится никогда, так же не кончится, как и твоя жизнь… Ты помнишь себя десять тысяч лет тому назад… Вот бегала по летнему саду радостная маленькая девочка, лезла на руки к своему деду, брала его за большой палец и о чём-то спрашивала с жаром и любопытством, на которое только и способны маленькие дети… Это было в городе, которого давно нет… Это было среди народа, которого давно нет… Это было в стране, свидетельницей расцвета и упадка которой была только ты одна… Ты даже не можешь ни с кем поделиться своими воспоминаниями, теми мыслями и чувствами, которые волнуют твою душу. Кому можно сказать, что тебе уже десять тысяч лет и что ты помнишь и знаешь такие подробности жизни людей, о которых не догадываются даже учёные-историки? Полное одиночество. Пусть ты выглядишь не на много лет, но ты-то сама знаешь, сколько ты прожила. Ты хотела бы рассказать об этом людям, но тебе никто не поверит… Потом прошло сто тысяч лет. Наступил пятиричный геологический период, изменился облик людей. Антропогенез сделал их совсем ни похожими на нас сегодняшних. Представь, сколько страданий, болей, скорбей, войн, голодов и холодов выпало на твою долю за сто тысяч лет жизни?!!! Сколько ты пережила болезней?! Сколько умерло всех твоих близких: мужей, детей, внуков, правнуков, праправнуков и прапраправнуков, сколько пришло и ушло на твоих глазах исторических эпох, народов, цивилизаций?! Да было ли всё это с тобой на самом деле?! Да, было… Разве твоя душа не устала ото всего этого бесконечного нагромождения страстей, событий, обретений и потерь?! Так есть ли смысл в том, чтобы жить вечно? Согласилась бы ты, Саша, жить вечно?
В ответ Саша только печально и многозначительно кивала головой…
Отношения с представителями литературной среды у меня всегда складывались очень по-разному. Например, Николай Иванович Братан… Как-то в литмузее имени Лавренёва мы с ним встретились на каком-то застолье. Братан меня, видимо, решил проверить на литературоведческую эрудированность. Он обратился ко мне:
– Ну-ка, скажи продолжение:
Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны…
Я слёту продолжил:
– Отменно прочен и спокоен,
Во вкусе умной старины.
Братан от удовольствия прищёлкнул языком и сказал:
– Молодец, знаешь толк в колбасных обрезках!
Николай Иванович Братан блестяще разбирался в стихах и был профессионалом с большой буквы. Хотя он и сам понимал, что его творчество в основном выполнено в духе «соцреализма», а соцреализм, как говорится, на любителя…
С Николаем Ивановичем я был знаком с самого начала моей активной литературно-общественной деятельности, то есть с 2003 года. Когда я опубликовал мой первый поэтический сборник «Святилище огня», я пришёл к нему, чтобы услышать от него квалифицированное мнение о моём творчестве. В те времена помещения Херсонского отделения Национального союза писателей Украины, которое он, как известно, возглавлял, находилось в маленькой коморке на первом этаже в здании Областного управления культуры.
Я подарил Николаю Ивановичу книгу. Он меня поблагодарил, но сказал, что сразу ничего сказать не может: надо, мол, почитать, да подумать. Я пришёл к нему через неделю.
– Там у вас говорят (то есть в Областной литгостинной), что все вы
являетесь учениками Федоровской. По твоим стихам я вижу, что это полная чушь. У тебя свой, ярко индивидуальный творческий почерк! Твоя поэзия от поэзии Федоровской находится на огромном расстоянии! – Блестящие стихи, – воскликнул Братан! – и налил мне шкалик вина. У Николая Ивановича это было наивысшим одобрением, если кого-то он угощал спиртным. Но больше он любил, когда угощают его…
Надо сказать, что во времена, когда руководителем Херсонского отделения НСПУ был Братан, у него в помещении нередко устраивались долгие застолья. Эти посиделки могли продолжаться весь день и заканчивались уже с темнотой.
Николай Иванович с самого первого дня проникся чувством глубочайшего уважения ко мне и к моим стихам. Я это явственно видел и чувствовал.
Однажды я узнал, что известный херсонский поэт Александр Бутузов написал на меня несколько эпиграмм. Мне сразу было очевидно, что эту акцию литературного признания инициировал Николай Иванович. На графоманские стихи Братан и Бутузов навряд ли обратили бы внимание, а тем более, занялись написание сатиры.
Помню, пришёл я в комнатку (уже в другую: тоже на первом этаже, но с другой стороны областного управления культуры). Там сидели: Братан, Кулик, Бутузов, Плоткин, Жур, Кичинский, Журакивский, секретарша и какие-то субъекты в украинских вышиванках. У них шёл разговор на какие-то темы связанные с украинским национализмом и его ролью в истории. Бутузов через некоторое время обратился ко мне:
– Хочешь я тебя удивлю?
– Ну, удивите,– сказал я.
Бутузов начал читать свои породи на мои стихи. Одну как сейчас помню:
Хоть я совсем не неврастеник,
Но вижу ночью у костров,
И офицеров белых тени,
И души белых юнкеров.
В Херсоне я рождён, но всё же
Двухцветный флаг я не приму:
Мне триколор всего дороже –
Я присягаю лишь ему.
В отменном здравии и силе,
Твержу о призрачной стране,
Хотя не призрачна Россия,
И благоденствует вполне.
В азарте юности и злости
Я офицер, а не буян,
Но всё равно тревожу кости
Простолюдинов и дворян.
Я позабыл в своей гордыне
И в жажде почестей и звёзд,
Что нет империи в помине,
Как столбовых дворян и вёрст.
– Ну, что ж: профессионально написано, – похвалил я Бутузова.
Но он, заметно, и сам был очень доволен своей работой. Но тут Николай Иванович начал меня ругать за слишком явную белогвардейско-монархичекую идейность некоторых моих стихов.
– Талантливый поэт! – провозгласил он тоном, не терпящем возражений, – должен работать на свою Родину, на ту страну, в которой родился и соками которой питается! Негоже смотреть всё в сторону России: надо прославлять Украину, её народ, ей культуру и историю!
Лекция об отсутствии патриотизма в моём творчестве растянулась минут на 30-40.
– Если каждый отличный поэт будет оглядываться на соседние державы, – в конце своего монолога заключил Братан, – то украинская культура перестанет существовать. А вместе с нею погибнет и народ.
«Да, всё верно» - периодически поддакивали со своих мест присутствующие. Я вынужден был оправдываться.
– Я, конечно, понимаю всю ту великодержавную и монархическую угрозу, которая проистекает из моего творчества, но поделать с собой ничего не могу. В моих стихах мощно говорит голос предков – коренных херсонцев, - которые создавали этот город, трудились на его благо и процветание. Да и вообще: дворянские стихи – разве это плохо? Державин, Пушкин, Лермонтов, Блок и Гумилёв тоже писали дворянские стихи, и это им – только плюс! – начал я распаляться. Наверное, я сказал бы и что-нибудь ещё, прибегая к самым категоричным выражениям, но Николай Иванович начал останавливать меня.
– Ну, ладно-ладно, – не будем тебя сильно ругать, – сказал Братан, – ты поэт отличный, а это главное. Ну, выпьем! Произнеси тост.
– Рукописи не горят! – сказал я первую пришедшую на ум строчку из Булгакова.
– За это и выпьем!
Николай Иванович, конечно, очень заботился о продвижении своего творчества в широкие читательские массы. Поэтому он обратился ко мне с просьбой о переводе его стихов на русский язык. Я согласился. Братан подарил мне одну из последних своих книг «Дожинок» с авторской надписью: «Талановитому та похмурому поетові». Стихи из этой книги я должен был перевести. Я долго настраивался на такую работу, которая мне, в общем-то, свойственна не была. До этого я перевёл только одно стихотворение Леси Украинки «Слово, чому ти не твердая криця?» Примерно через год я сделал переложение его стихов с украинского на русский. Принёс Братану. Показал.
– Очень хорошо! – сказал он, – а теперь ещё переведи мне пару стихов из Владимира Сосюры.
Через некоторое время я сделал и эту работу. Мои новые переложения Николаю Ивановичу тоже понравились.
– Ну, что ж, достойная работа! – сказал он. Я знаю, как заплатить тебе за неё. Ты ведь, кажется, являешься членом Межрегионального союза писателей Украины?
– Да, это так, – подтвердил я.
– Ну, так быть тебе ещё и лауреатом Международной литературной премии имени Матусовского, которая как раз выдаётся межрегиональным союзом! В Луганске (главном городе МСПУ) есть у меня один знакомый – руководитель областного отделения НСПУ по фамилии Неживый (мабуть вже помер… ). Я ему позвоню.
Через некоторое время Братан дал мне запечатанный конверт, который я должен был отправить этому самому Неживому.
– Здесь представление твоего сборника «Святилище огня» на премию, – сказал Братан, – вручая мне письмо. Он должен посодействовать.
Я письмо отправил по указанному адресу. Что было с ним дальше, мне не известно. Известно мне только то, что премию я эту не получил… Правда, потом эта премия всё-таки досталась… Ладе Федоровской… На том дело и кончилось.
Как-то в литмузее имени Лавренёва мы с ним встретились на каком-то застолье. Братан меня, видимо, решил проверить на литературоведческую эрудированность. Он обратился ко мне:
– Ну-ка, скажи продолжение:
Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны…
Я слёту продолжил:
– Отменно прочен и спокоен,
Во вкусе умной старины.
Братан от удовольствия прищёлкнул языком и сказал:
– Молодец, знаешь толк в колбасных обрезках!
Посиделки в союзе писателей становились всё суровее. Украинские писатели напивались чуть ли не до обморока… Они сидели на стульях вдоль северо-западной стены своей комнатушки бледные, как смерть. Некоторые на пьяную голову начинали меня третировать, обвиняя в русском империализме. Я, естественно, в долгу не оставался, и вспоминал калаборантов из ОУН-УПА, служивших фашизму. В ответ гуцулы и бандеровцы начинали скандалить…
Братану президент (точнее, резидент) Ющенко пожаловал звание «заслуженный деятель искусств Украины». Он этой наградой очень гордился. Говорил, что в Киеве многие покупают это звание за 10 000 долларов США.
– В Киеве всё покупается и всё продаётся, – как то признался он мне доверительно после двух бутылок вина…
Постепенно отношения с Братаном портились. Последней каплей переполнившей чашу моего терпения послужила история с бутылкой водки. Николай Иванович после продолжительной попойки захотел выпить ещё. Денег у присутствующих литераторов не оказалось. Тогда Братан попросил меня за свои деньги напоить всех водкой.
– Купи бутылочку, что тебе стоит, – обратился он ко мне.
– Я не официант из дешевого кабака, чтобы услуживать Вам! – сказал я.
– Ну, как хочешь, но только больше уж к нам не приходи…
– Ладно, договорились…
Я встал и, не прощаясь, ни с кем вышел из союзписательской комнаты. Больше мы друг с другом не виделись. Потом ещё Федоровская что-то наговаривала обо мне Братану. Я это понял по его заносчивому виду, который он изобразил, когда я как-то проходил мимо управления культуры, и столкнулся с ним нос-в-нос. А потом Николай Иванович умер. На его похоронах я не присутствовал. Мне об этом никто не сообщил. Да я и всё равно бы не пришёл. Зачем портить себе настроение?..
Жизнь продолжается.
На одной книжной выставке-ярмарке, организованной Херсонской торгово-промышленной палатой, я познакомился с Андреем Курковым. Я подарил ему свою книгу «Святилище огня». Прочитав несколько стихотворений, он сказал, что это достойная поэзия, которая заслуживает самой лучшей и почетной участи. Я поблагодарил его за столь лестный отзыв.
В июне 2005 года я ездил в Черкассы на литературный фестиваль «Пушкинское кольцо». Там я познакомился с известным современным литератором Олегом Семеновичем Слепыниным. Слепынин был председателем жюри. В Черкассах я провёл одни сутки, но этот очень короткий отрезок моей жизни я запомнил навсегда. На фестиваль съехались литераторы со всей Украины. Мы читали друг другу стихи, устроили пикник на берегу Днепра, а потом продолжили его ночью в гостиничных номерах. Приезд и участие для конкурсантов оплачивал сам фестиваль. Я получил лауреатский диплом в номинации «за аристократизм творчества», чему был несказанно рад.
Через год я стал лауреатом Международной литературной премии имени Николая Гумилёва, которая была вручена мне президентом М.А.Р.Л. Вадимом Анатольевичем Булатовым (Кисляком). Это событие тоже стало для меня приятным, однако, в общем и целом, моя жизнь уже тогда стремительно катилась куда-то в кювет...
В 2005-м году, в октябре я и Наташа побывали в Черкассах на поэтическом фестивале «Летающая крыша». Мы ездили туда и обратно на поезде. Она лежала на верхней полке, а я на нижней. Вагон был плацкартный и я всё время был начеку, так как боялся, чтобы проходившие по проходу полупьяные мужики и просто случайные попутчики не причинили ей неудобства. В Черкассах были долгие литературные чтения, плавно переходящие в застолье. Нас поселил Олег Семёнович Слепынин (устроитель и председатель жюри фестиваля) в старом общежитии. Там было сыро и неуютно, но, я особенно не грустил, ведь поехал я в Черкассы не один, а с собственной женой, а это здорово. «Летающая крыша», в отличие от «Пушкинского кольца», тоже проводившегося в Черкассах, была мероприятием, предназначенным для литературного андеграунда, для неформалов, как говорится. Ну, а мы с Наташей принадлежали к классическому течению, поэтому поэты, приехавшие на фестиваль со всей Украины, нас там не особо жаловали. Наше литературное общение в Черкассах длилось всего чуть более суток. После декламации стихов, литературного гульбища и награждения победителей, мы благополучно вернулись в Херсон. На «Летающей крыше-2005» я получил диплом «Судейские симпатии» и кружку-кубок с эмблемой мероприятия. Наташа не была награждена ничем.
Помнится, мы с Наташей как-то летом ходили на пляж в Гидропарк. Перешли баржу-мост, после чего свернули налево и обосновались на берегу Малого Потёмкинского острова, напротив берега Карантинного острова. Мы взяли с собой немного овощей, фруктов и хлеба. Всё это в перерывах между купанием и принятием воздушно-солнечных ванн мы и умяли. О чём говорили, даже не помню. Были, наверное, какие-то обыкновенные для нас темы: быт, еда, литература, история и живопись.
С 2006-го года наши отношения с Наташей стали серьёзно портиться. Если раньше все конфликты между нами ограничивались мелкими нечего не значащими стычками, то теперь стали возникать самые серьезные скандалы. Главная причина их была в том, что в нашей семье поменялось соотношение сил. Она перестала меня любить, а я стал любить её только сильнее. Мои чувства её раздражали, меня, в свою очередь, раздражала её холодность. Постепенно наши семейные узы рвались. С каждым месяцем душевного тепла и понимания было все меньше и меньше. Наша семья стала держаться уже только на чувстве долга, вины и жалости с её стороны и на невероятном стремлении её удержать – с моей. Я чувствовал себя глубоко несчастным человеком, а она всё отдалялась и отдалялась от меня…
Помню самый конец августа 2007 года. Мы с Наташей решили пойти на Площадь Героев Сталинграда. Там – у драмтеатра и на улице Суворова проходило театрализованное шествие кришнаитов. Наташе нравился весь этот восточный балаган. Шумные песни, пляски с барабанами и бубнами, какие-то загадочные телодвижения, носившие якобы сакральный и якобы таинственный смысл. Я тоже воспринимал всё это действо как разновидность театрального представления, а не как религиозный ритуал. В тот день мне было особенно хорошо находиться рядом с женой. Наши отношения, явно наладившиеся за лето, казалось, будут без особых проблем продолжаться и дальше. Тот август оказался последним этапом наших нормальных отношений. Дальше мы ещё будем как-то общаться только до февраля следующего года. А потом – постепенно станем врагами.
В ноябре Наташа подарила мне маленького рыжего котёночка. Она взяла его у соседей по подъезду, у которых была окотившаяся кошка. Она сказала:
– Это тебе на память…
Нашего (как я котёнка именовал впоследствии) «сынишку» я назвал Солнышко (Солнце, если официально). Маме он очень понравился и мы кота, конечно, оставили у себя на совсем. Со временем Солнце вырос и стал не очень большим и не таким уж и рыжим, но вполне взрослым и самостоятельным котом.
2008-й год стал самым тяжелым и трагичным для меня, наверное, за всю мою жизнь.
В феврале мы с Наташей расстались как муж и жена. Мы стали друзьями. Это произошло по её инициативе. Наталья оказалась исключительно эгоистичным и нравственно незрелым человеком. Она с какого-то момента стала относиться ко мне, не как к живому мужчине, обладающему своими чувствами, желаниями и интересами, а как к кукле. Она стала поступать со мной, как маленькая девочка со своей игрушкой: как с каким-нибудь медвежонком: захочу – буду играть с ним, гладить его, кормить из ложечки манной кашей, а захочу – оторву ему лапу, испачкаю в грязи и вообще, выкину в окошко… Что-то подобное случилось и со мной… Наташа так и не поняла, что собственного «родного» мужа нельзя бросить, согласуясь только со своими желаниями и прихотями. Муж – тоже человек и он тоже, так же, как и любой другой родственник, хочет, чтобы с ним считались и чтобы, уж, если от него и уходили, то только по обоюдному согласию.
В 2008-м году на Пасху мы с Наташей договорились встретиться на утреннем богослужении в Привозной церкви. Я так хотел увидеться с нею как можно раньше и постоять с ней на литургии как можно дольше. Но тогда, как, назло, меня замучили срочные домашние дела (по требованию мамы поход на рынок за продуктами и куда-то ещё). Я опоздал на богослужение и пришёл практически под его окончание. Такая меня тогда охватили досада, такая душевная боль, что я не смог хотя бы просто постоять рядом с женой, что не знал, куда себя деть. А что же Наташа? А Наташа не захотела со мною общаться после литургии. Она сослалась на какие-то важные дела, села в маршрутку и уехала. Я остался у разбитого корыта. Мне было очень обидно, но, что же мне надо было делать, чтобы удержать её? Не знаю…
Помнится, кажется, в июне 2008-го года мы виделись с Наташей в один из последних раз. Мы встретились с ней на конечной остановке 16-й маршрутки, в Гидропарке. Я пришёл первым. Стоял и ждал её. Я искал среди массы людей, выходивших из разных автобусов 16-го маршрута, её. Я вспоминал её лицо, её красивые тонкие пальцы, её белые руки, которые мне всегда нравились своими стройными, гармоничными, очень женственными формами. Тогда для меня не было дороже и роднее существа на всём белом свете, чем она. Но вот она приехала. Сошла со ступенек маршрутки. Сказала мне:
– Привет!
Слегка улыбнулась…
Наши с нею отношения уже тогда были весьма и весьма напряжёнными. Я ещё надеялся, что эта встреча поможет их укрепить.
Мы с Наташей пришли на пляж, на ту его сторону, что справа от баржи-моста – берег Карантинного острова, место мало «заселённое» отдыхающими. Мы сняли с себя верхнюю одежду и остались в плавках и купальнике. На ней был её всегдашний голубой купальник с белыми разводами, напоминающими пенные волны.
Мы стали говорить о всяких мало значимых вещах: о каких-то знакомых и о чём-то ещё. В конце концов, наш разговор перешел на резкие тона. Наташа оделась, собрала свои вещи и ушла. Я пытался догнать её, остановить, заставить выслушать себя и вновь примириться, но все мои старания оказались тщетны. Она села в маршрутку. Автобус закрыл двери и отчалил от бордюра, взяв курс к центру города. Я ещё долго стоял на остановке и смотрел вслед удаляющемуся транспорту. Этот проклятый, обыкновенный на вид автобус, увёз от меня не просто мою жену, он увёз мою семейную жизнь навсегда…
История нашего с Наташей развода была весьма драматической. Она потребовала от архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна, чтобы нас развели. Уж что она ему говорила, какие взятки давала ему на лапу, остаётся только гадать. В результате она получила свидетельство о разводе и потом показала его мне. Моему изумлению и возмущению не было предела! Какое право имели церковные власти разводить нас, даже не поставив меня в известность и даже не пригласив меня на заседание церковного суда!? «Даже Екатерина Великая развела Суворова с его женой только со второго раза, а до того пыталась примирить их между собой, – думал я». Мне казалось, что такое понятие, как «церковный развод» в православии вообще не существует. С тех пор в наших церковных властях я разуверился полностью.
Из-за нашего разрыва с Наташей я впал в страшную депрессию. Горю моему не было придела. Стало мне в моей жизни только тяжелее…
После расставания с женой я встречался с четырьмя женщинами. В течение одного года я сошелся и расстался со всеми. Ни Люда из Краеведческого музея, ни Ната с компьютерных курсов ХГУ, ни Марина из литгостинной, ни Анжелика, с которой я познакомился просто в кафе на улице Суворова, не заменили мне супруги и, по большому счёту, не сделали мою жизнь радостнее. Все они прошли как-то мимо меня, не тронув моего сердца и не сделав меня счастливым… Наталья Кислинская осталась единственной женщиной в моей жизни, которую я по-настоящему любил…
В этом же году, в марте умер папа. Я в тот день (19 числа) поехал к часу дня на работу в Южноукраинский региональный институт последипломного образования – там я читал иностранцам русский язык. Когда я находился в маршрутке, вдруг зазвонил мобильный. Я взял трубку. Это была мама. Она сказала, что папа умер, и что я должен немедленно возвращаться домой. Уходя из дома, я с отцом не простился, а когда вернулся туда, прощаться уже было поздно…
Папина смерть натолкнула меня тогда на тяжелые размышления. Жизнь – штука всегда трагическая. Она всегда нацелена на поражение – на смерть. Даже самая успешная судьба – это всегда бесконечная череда катастроф, душевных увечий, моральных травм. Даже мультимиллиардер, маршал или президент страны это всего лишь, жалкие, ничтожные человечки, которыми Природа играет, а наигравшись, ломает и бьёт их, как маленький ребёнок ломает надоевшую ему, старую игрушку… Ах, сколько же крови и слёз было пролито людьми за тысячелетия существования человеческой цивилизации на Земле, как же беспощадно и неумолимо уродовала жизнь их души! Это только киноискусство имеет массу жанров: комедия, водевиль, триллер, драма, а жизнь имеет всегда только один жанр – трагедию. Когда нам везет, мы – люди – всегда думаем, что ухватили Бога за бороду. Но всё это – не более, чем радужная иллюзия. Ну, сегодня мне радостно, я победитель, везунчик, а что же потом? А потом всё равно придёт поражение, беда. Роскошь и бедность, мир и война, долголетие и ранний уход в мир иной – всё это только разные грани человеческой трагедии, имя которой ЖИЗНЬ…
В 2008 году я твёрдо решил уйти из этого суетного мира. В чём заключался бы мой уход – вопрос другой. То ли быть монахом в монастыре, толи в миру – мне было, по большому счёту, всё равно… За тридцать лет своего бытия я насмотрелся на разные житейские мерзости, на всё жуткое и трагическое, чем так богата современная жизнь (и жизнь вообще). Насмотрелся я и на алчных людишек, которые ради выгоды маму родную зарежут, и на продажных женщин всех мастей; повидал я немало на своём веку и хамов, и жлобов со жлобовками, и мерзавцев с проходимцами и подлецами… Я устал ото всей этой человеческой дряни, от дураков и моральных уродов. Я снимаю с себя обязательства перед кем бы то ни было и чем бы то ни было. Теперь я буду жить вольной жизнью свободного художника и монаха. Я преодолел свой последний рубеж. Мне не страшно жить и не страшно умирать.
Мне не страшно умирать…
|