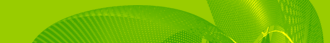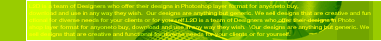* * * * *
Дядя Вова очень любил трудолюбие и трудолюбивых людей. Помню такой случай. В 1997 году, когда я был уже студентом пединститута, осенью мы решили построить новый сарай вместо старого, развалившегося. Пришёл рабочий и снёс старое строение, которое было совершенно аварийным. Потом он вырыл котлован для подвала. Я должен был весь грунт вывести одноколёсной тачкой за ворота. Поскольку от быстроты, с которой я выполнял свою часть работ, зависела быстрота осуществления всего дела в целом, я взялся за перевоз грунта со всей, можно сказать, ответственностью. За сутки я перемещал по 80-90 тачек. В таком темпе работал несколько дней подряд, пока всю глину и прочие породы, вырытые из-под старого сарая, не переместил на улицу. Руки и ноги у меня после такой работы отваливались. Я становился смертельно усталым и абсолютно больным человеком. За моей работой наблюдал из окна дядя Вова. Как потом он рассказывал мне, он вставал рано утром, смотрел в окно – я уже вожу тачки, потом он смотрел в окно в обед – я продолжаю возить тачки. Потом уже в вечернее время, после дяди Вовиного обеденного сна, он опять видел меня во дворе с тачкой в руках и уже, наконец, почти ночью он выходил во двор – и снова наблюдал меня за работой. И так почти неделю. Дядя Вова так меня стал уважать после этого, таким проникся восхищением к моему труду, что после того, как моя часть работы была завершена и последняя тачка грунта оказалась за воротами, пригласил меня к себе и устроил для меня маленькое пиршество. Поставил на стол бутылку вина, приготовил разной простой, но вкусной снеди, и сказал:
– Садись, угощайся, Павел! Вот это работу осилил! В жизни ты не пропадёшь: настойчивый и трудолюбивый человек всегда будит нормально жить, при любой власти.
Он угостил меня обедом, несмотря на то, что отличился я на строительстве нашего сарая, а не его.
Поскольку папа был не только вице-предводителем в ХГДС, но и начальником департамента науки, культуры и образования в нашей организации, он, иногда проводил различные литературные мероприятия. Однажды в Доме Культуры Судостроителей он собрал членов Дворянского Собрания, пишущих стихи или прозу. Таких набралось несколько человек: он сам, я, князь Ханхаруньи-Кяндарян. Екатерина Семёновна Войтова, Анатолий Осипов, Всеволод Георгиевич Дзешульский. В качестве квалифицированных слушателей и критиков выступили: Александра Николаевна Доррер, Юлия Константиновна Богненко, предводитель, Наталья Петровна Юрченко и другие. Сначала мы читали свои стихи, потом их обсуждали. Высказывались различные мнения, но, в конце концов, все сошлись на том, что лучшие стихи у меня, у папы и у Осипова. Юля Богненко сказала, что у неё аж мурашки идут по спине от папиного стихотворения о войне. Вот стихи моего отца, которые тогда обсуждались:
Стихотворения разных лет
Этюд о советском общепите
В столовой пусто, тишина,
Так вязко время длится,
Как в царстве сумрака и сна
Всегда печальна и бледна
Здесь дремлет продавщица.
И рыжий клок её волос
Волной на кассе слева
И рыжий кот, как верный пёс,
Уткнул свой влажный теплый нос,
В торговли королеву.
Велел я ей подать харчо
И водочки (от сплина).
Она, пошевелив плечом
Зевнула и спросила: «Чё,
Хотите Вы, мужчина?»
Я повторил: «Харчо - сейчас!»
Из мрака, словно чудо,
Она пришла ко мне как раз,
Исполнив поданный заказ
На заданное блюдо.
Я, съев ужасный этот суп
И горло «остограмя»,
Стал, словно страшный зверозуб,
Который, надрывая пуп,
Из глотки мечет пламя!
Потом живот как заболит,
Как в горле станет гадость…
Зачем, несчастный я пиит
Зашёл в советский общепит,
Чтоб подкрепиться малость!?
Море
Снова я увидел море:
Плещет рябь, темнеет дно…
Сколько счастья, сколько горя
Море людям принесло…
Море всякое красиво, -
Если вдруг возникнет шторм
Плещут волны, белогривы,
Оживив собой простор;
Если штиль и всё спокойно,
То проходят корабли
Величаво и достойно,
От портов своих вдали.
И хотя уже не рано,
Тени вот как коротки,
Выплывают из тумана
Золотые огоньки.
Среди дня и среди ночи,
В час звереющих штормов
Для души нам нужен очень
Свет далёких огоньков…
* * * * *
Я понял вдруг, что все отныне,
И труд, и мысли, и мечты
Принадлежат одной богине –
Моей богине красоты.
В одеждах вечного смиренья
К ногам её кладу цветы,
Как знак немого восхищенья
Своей богиней красоты.
* * * * *
Быстро юность лихая прошла:
Фронт, атаки, потом медсанбаты,
И годам не считал я числа,
Пока год ни пришел сорок пятый.
Буйством красок смеялся апрель
И полшага осталась до мая,
Но прошла пулемётная трель
Сквозь меня, год последний считая…
И без радости не было дня,
И победу вершили солдаты…
Без меня, без меня, без меня
Наступили великие даты…
За всю новейшую историю Херсонского Губернского Дворянского Собрания новогодний бал был проведён только единожды. Мой отец был против организации этого мероприятия. Во-первых, время тогда было трудное, в том числе и в материальном плане. Во-вторых, наша организация была достаточно малочисленна, что бы такое мероприятие мы были способны организовать на высоком уровне. В-третьих, у многих из членов собрания настроение было невесёлое: у кого-то не было работы, кто-то имел проблемы в семье, женщины вели трудное в наше время домашнее хозяйство, занимались детьми, работали от зари до зари. Однако, наш губернский предводитель где-то раздобыл некую сумму денег и бал всё-таки состоялся.
Данное действо N. организовал в Областном драмтеатре имени Кулиша. Всё мероприятие длилось часов пять. Оно было разделено на три акта. Первый - представлял собой официальную часть. Наиболее уважаемые члены дворянского собрания и гости бала из соседних дворянских организаций, мэр Херсона, другие высокопоставленные чиновники местного уровня произнесли приветственные речи. Они поздравили всех присутствующих с Новым годом и с третьей (это был 1994 год) годовщиной возрождения Х.Г.Д.С. которое, как известно, начало своё существование в новейшей истории в 1991 году.
Второй акт представлял собой концерт классической музыки. Звучали произведения Хачатуряна (увертюра из лермонтовского «Маскарада» и, кажется, что-то ещё); были исполнены избранные места из оперы Глинки «Жизнь за царя», а ещё вальсы Иоганна Штрауса, что-то из Кальмана, Вивальди, полковые марши русской императорской гвардии и армии, ну и, конечно, старые русские гимны. Под звуки венских вальсов многие дамы и господа танцевали. На этом балу не было никаких особых признаков роскоши. Не заметил я ни шикарных дамских платьев, не «прелестных локонов льняных», ни блестящих кавалергардских мундиров, расшитых золотом и увешанных боевыми орденами, ни звяканья шпор, ни шампанского, текущего рекой, ни карет и ливрейных лакеев при них (всё скорее напоминало корпоратив, организованный какой-нибудь коммерческой фирмой средней руки).
Третий акт бала был «гастрономическим». Официанты подали к столу несколько блюд из мяса, пару-тройку наименований вин, несколько сладких угощений, в том числе и мороженное. Обед был обильным, но не особо разнообразным.
Наши господа разъехались по домам около 21-го часа, ближе к ночи.
Наш губернский предводитель назначил меня курировать в нашей организации молодёжный отдел. Поскольку я был самым старшим из детей членов ХГДС и поскольку уже тогда был склонен активно выполнять работу на дворянском поприще, N. поручил мне опекать детей и молодёжь. Предводитель обязал меня проводить духовно-нравственные и идеологические беседы со школьниками средних и старших возрастов. Юношей у нас набралось не много, человек семь. Однажды я собрал их, чтобы побеседовать об аристократизме. Поскольку эта встреча происходила под присмотром моего отца, он сказал молодёжи напутственную речь, а я только слушал. Папа произнёс примерно следующее. «Дворянская идеология выдвигает особую философскую, эстетическую и идейно-нравственную доктрину. Аристократизм это особая духовная практика, которая всецело зиждется на Евангелии. Член Российского Дворянского Собрания должен стремиться к внутренней душевной гармонии. Как нравственная идеология аристократизм хорош тем, что он требует от своего адепта неустанного стремления к совершенству. Человек благородного происхождения должен быть развит всесторонне. Это значит, что он должен быть честен, порядочен, милосерден по отношению к слабым и просящим помощи, с другой стороны он должен ненавидеть подлость и подлецов, презирать хамов, бездарей, лжецов, лицемеров, ловких проходимцев, незаслуженно стремящихся пролезь на самые почётные и выгодные места. Жизненные блага должны быть заработаны добродетелями, а не пороками. Человек знатного происхождения должен всегда быть вежлив и опрятен. Настоящий дворянин должен с молодых ногтей развивать в себе таланты, ум, жизненную опытность, трудолюбие, которые позволили бы ему занять достойное положение в обществе, получить интеллигентскую профессию и кормиться честным и полезным людям трудом. Аристократ должен быть бережлив, ему всячески следует избегать лишних трат. Он обязан отменно знать историю своей семьи. Он должен всячески культивировать в себе чувство собственного достоинства, чувство единения со своим родом, благоговейное отношение к своим благородным предкам и предкам вообще, он должен уважать любого честного, работящего и квалифицированного труженика. Член Дворянского Собрания не должен проявлять внешних признаков своего превосходства перед людьми низкого происхождения, разве, если перед ним уголовник или отъявленный мерзавец. Член РДС должен развивать в себе утончённость, тягу к изящным искусством, тонкое понимание законов эстетики, ведь на их основе существуют все произведения классического искусства, а их надо понимать. Настоящий дворянин должен быть образован, причём, не только в области литературы, искусствоведения, истории, живописи, театра, но и юриспруденции, медицины, психологии, физики, а так же и прочих естественных, гуманитарных и технических наук, общее представление о которых необходимо в жизни. Член РДС должен быть человеком, постоянно наблюдающим за жизнью, чтобы постоянно учиться у неё преодолению жизненных трудностей. Лица дворянского происхождения должны всегда держаться вместе, помогать друг другу в трудных жизненных обстоятельствах. Ведь дружная семья или социальная страта (в данном случае корпорация, объединённая по сословному признаку) часто является залогом физического выживания. Дворянин должен уважительно относиться к традиционным религиям, особенно к православию, ведь восточное христианство это исконное верование наших предков, это духовная колыбель нашего великого триединого русского народа: великороссов, малороссов и белорусов. Член Дворянского Собрания должен быть монархистом, или, по крайней мере, человеком про-монархических, великодержавных, русско-националистических взглядов. Он должен всегда помнить, что российское дворянство исстари относилось к построению Великой и Неделимой России государственнически. Мы должны следовать старинному дворянскому девизу: «За Бога, Царя и Отечество». Нужно всячески почетать отца и мать своих, любить своих детей и жену, служить для них опорой духовности, быть добытчиком в своей семье, уметь материально обеспечить своих ближайших родственников. Мужчина должен стать главой своей семьи, женщина должна в основных вопросах подчиняться своему мужу. Мужчина всегда является опорой своего рода. Женщина же должна стать ему надёжной помощницей. Самые омерзительные человеческие пороки это подлость, трусость и предательство. Подлость и подлецы – вот самые страшные опасности, которые встречают на жизненном пути всякого порядочного человека. Тому будет в жизни сопутствовать успех, кто научится успешно бороться с ними. Каждый человек – это воин. В жизни нужно уметь быть искусным воином, вышедшим на поединок с трудностями и скорбями, нужно уметь держать удар, но всегда следует оставаться человеком чести».
В феврале 1996-го года папино дворянство было официально признано. Это стало счастливым эпизодом в жизни нашей семьи. Папа получил диплом действительного члена Российского Дворянского Собрания. В него были внесены: мама, я и мой брат родной по отцу Сергей. Конечно, этот диплом был не только констатацией происхождения, но и наградой. Папа своим действительным членством, в общем, гордился.
Активная работа на дворянском поприще в духовном плане давала мне многое. Она позволяла чувствовать себя сопричастным тем великим военным, научным, литературным и промышленным достижениям, тем географическим приобретениям, которыми так богата история нашей некогда единой большой страны. Я понимал, что далеко не в последую (если, не в первую!) очередь благодаря российскому дворянству, к которому я принадлежу, Россия получила политическое могущество, которым она так славилась в XVIII-XIX веках. Я ощущал духовное единство с дворянством прошлого и настоящего. Тогда я мощно чувствовал своё единение и единение своего рода с Великой и Неделимой Россией. Я всеми фибрами души ощущал свою духовную общность со всем самым замечательным, благородным, прославленным, что было в прошлом, и что есть в настоящем Моей Родины.
В 1996 году Херсонское Губернское Собрание окончательно развалилось (сказались интриги и козни против многих членов нашей организации со стороны предводителя). Папа сложил с себя обязанности вице-предводителя, и наша семья отошла от дел.
В 1995-м году я поступил в вечернюю школу, которую закончил, чуть ли не отличником. В 1996-м, получив Аттестат зрелости, поступил на подготовительный факультет Херсонского государственного педагогического института. В 1997-м стал студентом ХГПИ.
В юности жить интересно, здорово. В те годы моё мироощущение было всецело пропитано мистикой, мифологизмом, эстетизмом. Мне казалось, что наш реальный материальный мир иллюзорен, что он является всего лишь отражением истинного, потустороннего мира, находящегося за гранью реальности и ирреальности. Мистический Космос моих ощущений и грёз, моих идеалов, духовных чаяний и устремлений казался мне полным загадочности и красоты, неким зазеркальем, где законы Благородства, Добра и Милосердия правят человеческими душами безраздельно.
Я пытался рассудочно, но чаще, интуитивно, определить, каким нужно быть, чтобы иметь возможность попадать в мой Прекрасный Мир как можно чаще. Я понял, что должен стать поэтом – настоящим Творцом, которому только самим Господом Богом и позволено бывать в мире Совершенства и Красоты. Я тогда не стал человеком, верующим в религиозном смысле слова. Я почти не соблюдал обрядовую, внешнюю сторону всего того, что называется «верой». Я почувствовал Бога не через посредство различных религиозных текстов, вероучения, проповедей и прочих церковных явлений внешнего плана, а иначе, - как то «бытийно». Бог стал для меня высшей, глубоко сокровенной, сакральной сверхреальностью, мало имеющей отношения к вере, к Православию и к Христианству вообще. От верующих людей я стал отличаться тем, что я не верил, но знал. Верующий потому и называется «верующим», что сам он никак не ощутил на себе присутствие Бога, что он сам не видел его, не общался с ним, но, тем не менее, верит в Божье существование, я же знал, именно ЗНАЛ, что Бог есть. Я чувствовал на себе его благодать постоянно. Не редко у меня возникало такое состояние души, когда мне становилось очень хорошо, на меня находило счастье. Я как бы «прозревал». Я начинал видеть духовными очами гораздо больше, чем мог почувствовать обыкновенный простой человек, серый обыватель. Моя душа вдруг приобретала необычайные способности: остро чувствовать Красоту, Любовь к людям, Благородство. Ко мне приходило очень сильное воодушевление. Всё в моём существе начинало обостряться. Я вдруг становился каким-то невообразимым человеческим созданием, наделённым могучей, нездешней, непостижимой мощью. Я мог силой мысли проникать в иные Миры, общаться с душами предков, святых, и слышать голос самый прекрасный и непостижимый – голос БОГА.
Я стал поэтом-контактёром с Богом. Я глубоко убеждён, что любой по-настоящему талантливый поэт-символист – это в первую очередь контактёр с потусторонними силами, а не просто лицо, наделенное некоторыми литературными способностями – то есть способностью тонко чувствовать слово, рифмовать и инверсировать. Все самые великие авторы, работавшие в рамках символизма, начиная от Шарля Бодлера и Александра Блока, бес сомнения были прекрасными «путешественниками» в иные миры и контактёрами с нездешними силами Добра и Света, имя которым БОГ.
В обычной простой жизни я был обыкновенным человеком. Однако, когда я садился за бумагу и начинал писать, я полностью перерождался. Я становился человеком колоссальной воли и энергии. Во время сочинения стихов моя психика попадала в состояние изменённого сознания. Психика получала невероятную разгонку. Желание быть, желание жить, желание состояться как настоящая личность, переполняли мою душу. Я начинал походить на мощный вулкан, из которого вырывались раскаленные потоки лавы, пара, огня. Только содержимым моего вулкана – моей души – стала не огненная начинка Земли, а слова, выплеснутые на бумагу. Иногда накал моих страстей, желаний и сил был настолько велик, что я чувствовал в себе несокрушимую возможность всё в жизни Человеческой Ойкумены изменить к лучшему. Я ощущал в своей душе всевластие, я чувствовал себя Демиургом, от безграничной и безмерной воли которого зависит, какими станут создаваемыми мной художественные Реальности. Когда я начинал писать, все ограничения моей воли, обусловленные физическими, социальными, экономическими и прочими факторами исчезали как по мановению волшебной палочки. Моя личность в такие минуты приобретала космическую глубину и широту. В моей душе буйствовали настроения-стихии самые различные по своему эмоциональному окрасу. Я чувствовал острое ощущение собственного достоинства и власти. Внутри меня яркие, сочные, горячие страсти переливались всеми цветами радуги, как драгоценные камни; они пламенели, как расплавленные металлы, спрятанные БОГОМ в черных и неведомых глубинах Вселенной. Такая мощь в моей душе нередко порождалась протестом против каких-либо несправедливых или уродливых явлений жизни. Иногда этот протест становился настолько мощным, что мне казалось, когда я садился за лист бумаги, что я могу одним только умственным усилием изменить ход мировой истории или законы природы. Я чувствовал себя лицом, сопричастным самому БОГУ.
Со временем я самостоятельно нащупал способы проникать в «потусторонние» миры. Их было два: введение своей психики в состояние изменённого сознания с помощью «самонавеивания» и с помощью полусна-полуяви. Второй способ, обычно, заключался в следующим. Я ложился на кровать и начинал медленно засыпать. Постепенно отключаясь от объективной реальности я, как радиоприёмник, начинал настраиваться на некие «волны», на особый информационный поток, идущий из сверхреальности. Со временем я чувствовал, «нечто», которое сразу оформлялось вербально. Я вставал с кровати и записывал готовый рифмованный и инверсированный текст, который совершенно не нуждался в редактировании. Это были уже полностью сформированные стихи. Не знаю, можно ли ещё как-то рассказать о том душевном состоянии, которое возникает у поэта во время Акта Творения? Не удержусь от соблазна, чтобы не привести цитату из Татьяны Толстой. Эта цитата нравится мне своей яркостью и точностью. Вот, как Толстая пишет об этом.
«Художник «доквадратной» эпохи (эпохи, которая была в изобразительном искусстве, до создания работы Казимира Малевича «Чёрный квадрат». Прим. автора) учится своему ремеслу всю жизнь, борется с мертвой, костной, хаотической материей, пытаясь вдохнуть в неё жизнь; как бы раздувая огонь, как бы молясь, он пытается зажечь в камне свет, он становится на цыпочки, вытягивая шею, чтобы заглянуть туда, куда человеческий глаз не дотягивается. Иногда его труд и мольбы, его ласки увенчиваются успехом; на краткий миг или на миг долгий «это» случается, «оно» приходит. Бог (ангел, дух, муза, порой демон) уступают, соглашаются выпустить из рук те вещи, те летучие чувства, те клочки небесного огня – имени их мы назвать не можем, - которые они приберегали для себя, для своего скрытого от нас чудесного дома. Выпросив божественный подарок, художник испытывает миг острейшей благодарности, неуниженного смирения, непозорной гордости, миг особых светлейших и очищающих слёз – видимых или не видимых, миг катарсиса. «Оно» нахлынуло, «оно» проходит, как волна. Художник становится суеверным. Он хочет повторения этой встречи, он знает, что в следующий раз может и не допроситься божественной аудиенции, он отверзает духовные очи, он понимает глубоким внутренним чувством, что именно (жадность, корысть, самомнение, чванство) может закрыть перед ним райские ворота, он старается так повернуть своё внутреннее чувство, чтобы не согрешить перед своими ангельскими проводниками, он знает, что он – в лучшем случае только соавтор, подмастерье, но – возлюбленный подмастерье, но – коронованный соавтор. Художник знает, что дух веет, где хочет и как хочет, знает, что сам-то он художник, в своей земной жизни ничем не заслужил того, чтобы дух выбрал именно его, а если это случилось, то надо радостно возблагодарить за чудо».
В Потусторонней Божественной Сверхреальности, где мне было позволено бывать иногда, я ощущал всеми фибрами своей души присутствие Нравственного и Эстетического Абсолюта (1). Я явственно открыл для себя, что наша Вселенная держится не только на материальных основах, что ею правят не только законы физики, химии и математики, но что она имеет куда более тонкие и могучие основания. Её фундаментом в первую очередь являются Добро и Красота (а ещё - Совершенство и Истина). Этот нравственный и эстетический Абсолюты по сути дела и являются БОГОМ.
-------------------------------------------
1 (Сноска). Вся Потусторонняя Божественная Сверхреальность состоит из нескольких Абсолютов: 1. Нравственный – это абсолютное Добро и Милосердие; 2. Эстетический – это абсолютная Красота, Гармония, Изящество, Утончённость и преклонение перед Вечной Женственностью; 3. Аристократический – это абсолютная Справедливость, Благородство, Сила, Мужественность, Отвага, Верность, презрение к физической смерти, превосходство перед Низостью, ненависть к Подлости и Воинствующему Хамству, благоговение перед памятью о предках, перед Богом, Царём и Отечеством.
В «потусторонней» сверхреальности нет места Дьяволу. Он живёт в «посюстороннем» мире и имя ему - «Воинствующий Хам», Быдло, Моральный Дегенерат, возомнивший себя Богом. Сатана – это Абсолютное Зло. Это тоже Абсолют, поскольку он вечен и так же непоколебим, как и другие основы, на которых держится Мироздание. О силах зла когда-то я написал такое стихотворение:
Черный туман окутал город,
Красные флаги на площадях:
Острый серп и тяжелый молот
Ветром надулись в красных снастях.
Ночь изрыгает черные массы,
Улицы полны тысячью тел –
Вышли животные новые расы
Для совершения черных дел.
Гулко идут селевые потоки-
Кожанок в ногу движется строй,
Дьявололицы, дьяволоноги,
В пыль разбивают гранит мостовой.
Тускло мерцают штыки под луною,
В темени мутной означивши сброд…
Чувствуешь, веет самим Сатаною?!
Питер. Октябрь. Семнадцатый год.
-------------------------------------------
Тогда я часто ставил перед собой вопрос: «А что это такое – Красота?». В чем разница между Эстетическим Абсолютом, царствующим в «потустороннем» мире, и простой красотой нашего «посюстороннего» мира? Истинная красота всегда гармонична, системна, самодостаточна. В ней присутствует некий Божественный замысел, очищающий душу поэта от скверны, фальши и низости по средствам Катарсиса.
В моей душе понятие «Красота» очень часто ассоциировалось с понятием «Женщина». Женственность – это тоже Абсолют существующий в «потустороннем» мире. Иногда Женственность и Красота являлись ко мне в образе Вечности. Моя духовная сущность рисовала в сознании идеальный женский образ. Ах, сколько же было в нём непостижимого и прекрасного! Сколько изящного, упоительного, утончённого! Этот образ обладал очень важным качеством – совершенством.
В те годы я стал самодостаточной творческой личностью, ко мне пришло глубокое понимание искусства, как художественного и социального явления. Мои воззрения на этот вопрос тогда приняли форму манифеста. Его основная суть заключалась в следующем. – Настоящее высокое искусство – это искусство аристократическое, элитарное, зовущее к высшим идеалам, к совершенству. Оно по средствам высокой художественности делает людей сопричастными высшим Божественным истинам. Оно учит БЛАГОРОДСТВУ, КРАСОТЕ, УТОНЧЁННОСТИ. Оно по самой своей сути не может быть «популярным» или «массовым», потому, что людей, которые могли бы стать его потребителями, всегда очень мало и обладают они редким душевным качеством – аристократизмом духа. Только произведения аристократического искусства могут стать гениальными, быть признанными таковыми. Простонародный «лубок» не пригоден для этого по определению. Однако, гениальному писателю нужен гениальный читатель. Оценить по достоинству стихи Шекспира, Пушкина или Блока может только тот человек, который и сам находится на высокой ступени интеллектуального и духовного развития, который и сам знает толк в литературе, имеет достаточный багаж знаний, духовность, глубокий жизненный опыт. Что же касается так называемой «попсы», то попса – это не искусство, это подделка под искусство, эрзац. Она культивирует в душах людей низменные инстинкты, пошлые, дешевые страстишки. Попса оглупляет людей. Самое страшное, например, среди музыкальных направлений попсы – это тяжелый рок – настоящая сатанинская музыка (если вообще его можно назвать музыкой).
В те времена, я не раз спрашивал себя вот о чём: «Может ли чужой литературный опыт стать психологическим материалом для поэтической учёбы?» Понятно, что другой человек не способен кого-либо научить писать стихи (и в этой связи мне вообще не ясно, с какой целью существует литинституты?). Поэзия – это слишком тонкое, сокровенное, сакральное ремесло, чтобы её тайнам мог одни человек научить другого (поэзии учит Бог, а не люди). С другой стороны, человек может научиться писать у другого человека, однако не прямо, а через тексты. Такая учёба будет касаться не столько сути поэзии, сколько её формы, т.е. поэзии, как ремесла. Я, например, не раз брал какое-либо явно гениальное стихотворение поэтов прошлого и сам себя спрашивал: что сделал со своей душой автор, чтобы написать именно так, а не иначе? Как он достиг именно этого эстетического эффекта? Как он воспитал свою личность, чтобы написать именно так, а не по-другому? Я учился писать в основном у Лермонтова, Блока, Цветаевой и Ахматовой. Например, в одном моём стихотворении есть такие строки:
И встретить ближайшее утро
Уже не пришлось никому…
Этот приём, заключающийся в намёке, в недосказанности и называется «психологическо-сопосредованное изображение». Этот приём считается чисто акмеистическим. Он мне очень понравился. Одним из важнейших творческих инструментов стала для меня ассоциативность. В символизме без нее – никуда. Ассоциативностью я овладевал на примерах блоковской «Незнакомки», различных гумилёвских стихотворений, некоторых стихов Лермонтова. Были у меня и другие учебные образцы.
Тогда-то я и стал поэтом-символистом. Самой родной душой во всей русской и мировой литературе был для меня тогда Александр Александрович Блок. Если бы у меня кто-нибудь спросил, кого из известных поэтов я считаю своей семьёй, то я ответил бы без раздумий, что своими литературными родителями признаю Александра Блока и Марину Цветаеву. Они – мои стихотворные отец и мать, а кроме них есть у меня ещё разные двоюродные и троюродные тёти и дяди, дедушки и бабушки, а так же и другие почтенные литературные предки, являвшиеся когда-то для меня объектом поклонения.
Немного перефразируя слова известного поэта-символиста Вячеслава Иванова, можно сказать, что я пережил миф, как событие личного опыта, и потом выразил его в своём мистериальном творчестве.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОЛОДОСТЬ.
С поступлением в институт (который вскоре стал университетом) для меня начался совершенно другой, новый период в жизни. Я сам изменился до неузнаваемости. От того – хилого, душевно слабого, меланхоличного юноши, каким я был ещё пару лет назад, не осталось и следа. В моей душе произошёл взрыв: силы, эмоции, желания фонтанировали через край. Шутя, запоминал я целые учебники, с первого прочтения заучивал вузовские конспекты, поражал преподавателей, а главное, самого себя, необычайной волей и стремлением всё знать и всё уметь. Дойдя едва до середины первого курса, я стал читать лекции студентам своей же группы. Бывало какому-нибудь преподавателю надо было отлучиться во время занятий по «служебной» надобности (вызывали то в деканат, то в ректорат: ничего не поделаешь – надо идти… ), и он просил меня дочитать за него лекцию или провести семинар. Поскольку я всегда знал материал на несколько занятий вперёд, и к тому же, читал дополнительную литературу, преподаватели всегда могли на меня в трудную минуту положиться. На излёте первого курса доцент Елена Евгеньевна Бондарева сделала относительно меня свой прогноз:
– Быть Вам скоро аспирантом! – сказала она. Приходите после пятого курса ко мне – я подумаю, что с Вами делать.
Конечно, такими предложениями я очень гордился.
В университетские годы я очень сдружился с Людмилой Ивановной Черкун (заместителем декана нашего филфака) и с доцентом Ниной Павловной Тропиной. Собственно говоря, и все другие преподаватели имели со мной самые теплые или, как минимум, лояльные отношения. Конечно, кому же мог не понравиться студент-отличник («студент-профессор», как меня дразнили одногруппники), относившийся к учёбе с такой страстностью и восторженностью.
Однажды я участвовал в качестве актёра в студенческом игровом фильме. Кажется, это было на втором курсе. Доцент Демецкая, которая курировала у нас на факультете вопросы культуры и воспитания, попросила меня сыграть Эдварда Радзинского. Я должен был его спародировать. Голос у меня, как раз подходящий, да и внешне я был на него в какой-то мере похож. В образе Радзинского я говорил в кадре примерно следующий текст:
– Здравствуйте, дорогие мои ребятушки! Расскажу я Вам сейчас добрую сказочку, хорошие мои. Жил да был в одной северной стране один вредный дядька, которого звали Распутин. Натворил он столько бед, дорогие мои деточки, что его решили убить. Вчетвером стреляли в него из наганов, а потом утопили в реке. И поделом же ему, добрые мои малыши…
Фильм получился очень смешным, ну, а может быть, и не очень, но, во всяком случае, на всеуниверситетском конкурсе игровых роликов он получил первое место. После этого его отправили на аналогичный конкурс в Киев.
Среди вузовских преподавателей попадались весьма незаурядные личности. Например, когда я учился на подготовительном курсе ХГПУ, у нас читали свои дисциплины профессор Евгений Павлович Полищук (бывший ректор ХПИ) и профессор Виктор Павлович Ковалёв. Полищук преподавал нам историю мировой культуры. Он, помнится, рассказывал о древнешумерском эпосе Гельгемаша. Я слушал его лекцию с большим интересом, а две девчонки, которые сидели за соседней партой, играли в это время в крестики-нолики. Ещё два человека из нашей маленькой спецгруппы вообще не пришли…
Виктор Павлович Ковалёв читал нам лингвистическую стилистику. Он повествовал по мотивам своей докторской диссертации. Говорил об особой классификации метафор: «живое-живому», «неживое-неживому», «неживое-живому», «живое-неживому»…Мне было слушать его очень занимательно, но рядом кто-то снова мешал своими крестиками-ноликами и громким шепотом бог знает о чём…
В университете я познакомился с самым молодым профессором на Украине – с Анной Анатольевной Чумаченко. Анна Анатольевна читала у нас украинской фольклор. Она заметила мою жажду знаний и горячность в достижении своих целей и, как-то подозвав меня к себе на перемене, сказала:
– Я вижу, что Вы хороший студент, но у Вас очень плохой украинский выговор. Такой русский акцент я никогда ещё не слышала. Давайте я буду с Вами бесплатно заниматься, чтобы научить Вас правильно говорить по-украински.
Я поблагодарил Анну Анатольевну за такое очень лестное предложение, но от занятий отказался. Не хотелось мне быть должным такому известному человеку, да и не любил я украинский язык, честно говоря…
Когда я учился в университете, мне приходилось выполнять различные общественные обязанности. Самыми интересными были две из них: составление университетского и факультетского гербов и руководство литературной секцией факультетского научного студенческого общества. Мой первый конкурс по геральдике, на который надо было представить проект факультетского герба, я выиграл, и герб, составленный мною, потом целый год красовался на дверях деканата, пока факультет не переименовали и герб не заменили на другой; конкурс на общеуниверситетский герб я проиграл. Моя символика не понравилась ректору Беляеву. Мне потом передали, что Юрий Иванович сказал об этом:
– Мы – ВУЗ, а не Российская Империя! Нам такой сложный герб не нужен!
Тем не менее, за участие во всеуниверситетском геральдическом турнире я после четвертого курса был премирован недельной бесплатной поездкой в вузовский пансионат, на море.
Что касается деятельности в литературоведческой секции научного студенческого общества, то и эта работа казалась мне весьма увлекательной. Я делал лекции по истории и теории литературы, а потом читал их студентам-членам моей секции. За всё время моего обучения я прочитал таких лекций, наверное, около десяти. Большинство из них было посвящено авторам Золотого и Серебряного века русской поэзии. Особенно мне запомнилось моё выступление о творчестве и судьбе Марины Цветаевой. Сколько прекрасного и трагического было в её стихах, сколько боли, гордости, упорства… Моими самыми любимыми стихами Цветаевой были эти:
Поступью сановнически-гордой
Прохожу сквозь строй простонародья.
На груди - ценою в три угодья -
Господом пожалованный орден.
Нынче праздник слуг нелицемерных:
Целый дождь - в подхваченные полы!
Это Царь с небесного престола
Орденами оделяет - верных.
Руки прочь, народ! Моя - добыча!
И сияет на груди суровой
Страстный знак Величья и Отличья,
Орден Льва и Солнца - лист кленовый.
* * *
Есть в стане моем - офицерская прямость,
Есть в ребрах моих - офицерская честь.
На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!
Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.
А зорю заслышу - Отец ты мой рoдный! -
Хоть райские - штурмом - врата!
Как будто нарочно для сумки походной -
Раскинутых плеч широта.
Всё может - какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел...
И что-то от этого дня - уцелело:
Я слово беру - на прицел!
И так мое сердце над Рэ-сэ-фэ-сэром
Скрежещет – корми - не корми! -
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.
* * *
Из строгого, стройного храма
Ты вышла на визг площадей...
- Свобода! - Прекрасная Дама
Маркизов и русских князей.
Свершается страшная спевка, -
Обедня еще впереди!
- Свобода! - Гулящая девка
На шалой солдатской груди!
Однажды, профессор истории Василий Николаевич Дариенко решил меня поощрить за рвение к наукам и отличное знание своего предмета. Он пригласил меня к себе домой и разрешил выбрать любую книгу по истории, с тем, чтобы я взял её почитать. У меня разбежались глаза! Такого количества материалов о прошлом нашей страны и вообще всего мира я ни видел нигде и никогда. Даже наша домашняя библиотека выглядела не так внушительно на фоне собрания исторических книг профессора Дариенко. Я попросил Василия Николаевича дать мне на время почитать Большую иллюстрированную энциклопедию по геральдике. Вернул я её примерно через пару недель. Прочёл её за это время от корки до корки – на одном дыхании – и остался потом очень доволен.
Однако, случаи, которые происходили со мной во время учёбы в университете, конечно, бывали разные. Порой я преподавателям просто надоедал своей кипучей жизнедеятельностью и необузданным желанием всё знать.
Однажды на семинаре по истории старший преподаватель Недзельский спрашивал мою группу по поводу древнего прошлого Украины. Профессор Дариенко надиктовал нам накануне обширный, но, в общем-то, простенький конспект по этой теме. Поскольку мы были студентами-филологами, а не историками, то слишком уж высокие исторические материи нам просто не давали. Отвечать на поставленные вопросы вызвался я. Изложение моего доклада наизусть, без бумажки составило минут сорок (то есть, как раз полпары). Я мог бы продолжать и дольше, но наш преподаватель вдруг раздраженно спросил у меня:
– Куда Вы лезете?! Мало того, что Вы кроме конспекта использовали для ответа сочинения Карамзина и Большую советскую историческую энциклопедию, но Вы же ещё наверняка начитались учебника археологии для исторических факультетов университетов! Вы специфическую профессиональную терминологию хоть понимаете?! Вы, может быть, полагаете, что будете преподаванием истории зарабатывать себе на жизнь?!
Я честно признался, что действительно проштудировал накануне учебник археологии, и что он мне очень понравился. В конце концов, преподаватель поставил мне пять баллов и сказал, что на экзамен я могу не являться: отметка «отлично» автоматом мне гарантирована.
Из-за моего неуёмного желания ответить на все вопросы преподавателей, везде успеть и быть первым во всех делах учёбы мои отношения со студентами-одногруппниками складывались порой не по-хорошему. Девчонки, которые учились вместе со мной, стали на практических и семинарских занятиях устраивать на меня целые облавы. Происходило это примерно так. Преподаватель спрашивает студентов в течение одной пары в соответствии с заранее известными вопросами. Обычно, на одно семинарское занятие таких вопросов приходилось 7-12, в зависимости от их объёма и сложности. Преподаватель, как правило, сначала вызывает добровольцев. Иногда, студенты желающие отвечать по своей доброй воле, находятся. Если предмет сложный или подразумевающий овладение большим объемом информации, желающих отвечать нет. Тогда преподаватель требует, чтобы ответили те студенты, которых вызывает он принудительно. Так протекали практические занятия в тех академгруппах, где не учились такие студенты, как я. В моей же группе всё было совсем по-другому. Преподаватель оглашает первый вопрос, на который он хотел бы услышать ответ добровольца. На этот вопрос вызываюсь отвечать я. Поскольку я излагал материал всегда на память, не по бумажке, правильно и красиво строил фразы и использовал в нём дополнительные материалы, а не только конспект, который начитал накануне профессор, то мой ответ занимает как раз полпары, если не больше. Преподаватель, в конце концов, благодарит меня за замечательную лекцию, ставит в журнал «отлично» и садит на место. Потом он оглашает следующий вопрос, на который он хотел бы услышать добровольный ответ студентов. На второй вопрос опять вызываюсь отвечать я. Иногда мне разрешали ответить и на него. Если преподаватель говорит мне «пожалуйста», я без запинки отвечаю и на второй вопрос. Естественно, что кроме меня на данном семинаре ещё кто-то из студентов себя хочет показать. Поэтому, когда мне разрешалось отвечать на семинаре большие темы или несколько тем одновременно, студенты поднимали настоящий бунт. Не давали мне подойти к кафедре, первые до неё добегали и, обложившись конспектами и учебниками, излагали тему, подглядывая в тексты и совершенно не обращая внимания на то, что преподаватель вызвал меня. Я, конечно, против этого публично протестовал, апеллировал к преподавателю, ведущему занятие, и требовал восстановления справедливости. Девчонки-студентки на меня за это «шипели», а потом ещё и придумывали мне всякие «интересные» прозвища. Например, наша староста Н.Г., которой я особенно мешал учиться, стала называть меня «букой» и «непризнанным гением» (это она так кокетничала)…
Мой распорядок дня во время учёбы в университете был всегда одним и тем же. В 06.00. – подъём. Умывание, бритьё, завтрак. С 07.00. – Штудирование учебников, конспектов и другой литературы. В 12.00 – выход в университет - на занятия. Шёл пешком минут сорок. Потом минут 15-20 оставалось на то, чтобы найти нужную аудиторию и бегло повторить выученный материал. В 13.00 – начало занятий. В 17.00. – уход из ВУЗа. Тут время могло, конечно, меняться в зависимости от того, сколько было пар. Шёл я домой всегда через парк Ленинского комсомола и ул. Суворова (гулял) В 18.00 – приход домой, обед, отдых. С 19.00. – Штудирование учебников и конспектов, чтение книг художественной литературы, которые необходимо было знать по программе. В 00.00. – ужин и отход ко сну. Если учебный материал был уж очень интересным, иногда засиживался и до двух-трёх часов ночи.
Девушки по мне стали сходить с ума. Но я сразу понял, что «воевать» на два фронта (на любовный и на учебный) я не смогу, поэтому всем девушкам неизменно отказывал. Уж очень мне хотелось окончить университет с красным дипломом и поступить в аспирантуру! Перспектива сделать научную карьеру манила меня, как зайца морковка. Я хотел повторить судьбу отца – стать учёным, кандидатом, хоть и не медицинских, но зато филологических наук!
Будучи на втором курсе, я стал участвовать в заседаниях литературного клуба «Улей». Этот литературный кружок был молодёжным, многие его завсегдатаи принадлежали к андеграунду. Я как классический автор андеграунд со всеми его новомодными и хамоватыми «штучками» очень не любил, но поэты-авангардисты относились ко мне дружески, и я два года участвовал в их литературном общении. Они, в общем, ценили моё творчество, но говорили, что всё это по большому счёту прошлый век, архаика. Одним словом, они держали меня в клубе, как интересный музейный экспонат. Но я на них совершенно не обижался.
* * * * *
Папа в те годы нередко оказывал людям бесплатную медицинскую помощь, занимался благотворительностью. Я хорошо помню, как приходили к нему какие-то серые, неприметные личности. Как, правило, это были крестьяне из далёких херсонских сёл. Заплатить за официальное обследование они не могли (а, может быть, не хотели). Узнав в Тропинке, где одно время работал отец, что в городе есть хороший доктор, который очень жалостливо относится к людям, они шли к нему в УТоС на приём.
Папа очень любил наш дом. Любил сад, зелень, разные вкусные овощи и фрукты, которые росли у нас просто повсеместно. Иногда мы с ним вместе сидели на скамейке у веранды. Помню, как сейчас, один сентябрьский день. Было тихо. Со всех сторон нас окружала густая тёмная листва. Сквозь сомкнутые кроны деревьев пробивались золотые лучи раннего, утреннего солнца. Было прохладно. Куст мускатного винограда «Изабелла», росший в другом конце двора, испускал аромат, который папе очень нравился. На душе у нас был покой и умиротворение…
* * * * *
Уже, будучи на пятом курсе, мне довелось написать одну «лишнюю», так сказать, «курсовую работу». Хотя все выпускники на последнем курсе писали только дипломную, я захотел помимо дипломной работы, «поразвлечься» ещё чем-нибудь эдаким, и попросил у Нины Павловны Тропиной, чтобы она дала мне тему курсовой по её предмету (по общему языкознанию). Нина Павловна сказала, что я не маленький и могу выбрать сам. Я решил писать работу по теме: «Предки и потомки носителей ностратических языков: палеолингвистический, археологический и расовогенетический аспекты исследования». Написал я эту курсовую примерно за неделю. Денно и нощно в течение всего этого периода сидел в библиотеках. В Историческом музее выпросил журнал, где было написано о дивергенции древних языков и о том, по каким гаплагруппам распределяют ученые их носителей. Было, конечно, там и много других интересностей, но объём поджимал (не больше 40 страниц формата А4), поэтому много материала пришлось оставить за бортом моего исследования.
Когда я стал докладывать работу Нине Павловне в присутствии всей моей 511-й группы, никто ничего не понял. Ностратика у нас как особое лингвистическое учение не преподавалась, а что касается археологических и биологических аспектов моей работы, то о них мои одногруппники и вовсе не захотели ничего знать. Если бы Нина Павловна не настояла, на том, чтобы они закончили шуметь и дали мне возможность доложить хотя бы те вопросы, которые касались нашей специальности, то они бы и палеолингвистическую составляющую моей курсовой проигнорировали. В результате все были в восторге: группа, отпущенная преподавателем домой чуть-чуть раньше звонка на перемену (это была последняя пара); я, получивший «пятёрку», а так же право не являться на Общее языкознание до конца семестра и на экзамен и Нина Павловна, порадовавшаяся тому, какого перспективного исследователя и, можно сказать, будущего учёного она воспитала.
Несмотря на мою отличную учёбу в ХГПУ, красного диплома я так и не получил. Виной этому было то, что, будучи на третьем курсе, я поссорился на политической почве с доцентом N.N., который ломал из себя украинского националиста, хотя при советской власти он был убеждённым коммунистом. N.N. в какой-то момент начал ставить мне одни круглые тройки по своему предмету – современный украинский язык. Со временем его тройки меня и «утопили».
В последствие, получить «синий» диплом мне было очень обидно, но ничего уже нельзя было поделать… Да и в конце концов, ни дипломом единым жив человек…
Помню радостным для меня мероприятием была процедура вручения дипломов. Всех выпускников по очереди вызывали на возвышенный помост актового зала, к ректору, который в торжественной обстановке, в присутствии чуть ли ни всего университета вручал синие и красные корочки. Честно говоря, тот день врезался в мою память даже не официальными торжествами, а общением с одной моей бывшей одногруппницей, которая тогда уже училась на другом факультете. Её звали И... Она была профессиональной вокалисткой, хотя и занималась на историко-филологической специальности. Накануне я подарил ей рукопись своих самых лучших стихов о любви. На неё они произвели настолько сильное впечатление, что она, увидев меня неподалёку от главного корпуса ХГУ, подошла и стала сразу благодарить за настоящее искусство. Потом И… растрогалась. На её глазах появились слёзы. Она крепко-крепко обняла меня за шею, поцеловала, прижалась ко мне с такой страстью и искренностью, на которые способна далеко не каждая женщина… Тогда я так остро и ярко почувствовал запах женщины: запах волос, терпковатый аромат дорогого парфюма; ощутил на своей щеке её тёплое дыхание… Я обнял её за талию – нежную, тугую, по-девичьи стройную, а она шептала мне что-то о том, что любит меня, любит мои замечательные стихи и вообще любит весь мир – такой загадочный и непостижимый… Так мы с нею и стояли в обнимку на глазах у многочисленного студенческого народа, пришедшего получить свои дипломы. Вообще она всегда была очень сентиментальным и добрым человеком. Когда И… пела, она часто срывалась на слёзы. Эта черта есть у многих людей искусства, для которых их творчество – это исповедь перед Богом. Они вживаются в художественный образ настолько сильно, что чувства начинают переполнять душу, изливаться наружу чистыми и щемящими слезами радости, слезами катарсиса. Хотя уже и прошло много лет с тех пор, но я до сих пор, вспоминая этот случай, ощущаю тепло и какую-то сладковатую досаду… Очень жаль, что с тех пор с И… мы так не разу и не встретились…
В 2000 году к нам в очередной раз приехал Сергей. На сей раз его приезд был не простым посещением отца: он должен был решить одно очень важное дело. Серёже было необходимо получить от отца разрешение на выезд заграницу. Они с Зинаидой и детьми решили покинуть страну навсегда и перебраться на родину Зининых предков.
Папа был против. Он сказал Сергею:
– Куда ты едешь?! В страну, где к тебе будут относиться враждебно!? Местные жители будут считать тебя врагом. Ты не найдёшь там работы, не подтвердишь диплом, не обеспечишь своих детей и станешь, в конце концов, неприкаянным и вечно неудовлетворённом жизнью человеком.
Сергей с папой полностью согласился, но заявил, что не хочет бросать детей, отпуская их одних, но, в тоже время, не хочет, чтобы они остались на Украине, потому, что здесь нищета и нет никакой перспективы для людей. Папа предложил ему остаться жить в Херсоне и работать тут по своей врачебной специальности. Сергей от этого отказался.
– Ну, что ж, будь, что будет, – сказал папа…
Он подписал для Сергея своё разрешение на выезд из страны и больше на эту тему разговоров не было…
Мой брат пробыл у нас около недели. Он в глубине души, конечно, понимал, что дела его оставляют желать лучшего, дело «табак», как говориться, но он ничего не мог уже поделать: машина отъезда была запущенна на полные обороты, его жена в Ивано-Франковске уже оформляла документы, дети паковали вещи – и у всех было «чемоданное» настроение…
В Херсоне тогда была ранняя осень – возможно лучшая пора в наших краях. Уже благоухали в нашем саду спелые фрукты и овощи, ушла летняя жара, и держалась ровная тёплая погода. Когда у меня кончались пары в университете, мы с Серёжей гуляли по паркам, смотрели сквозь листву на теплое золотое Солнце, любовались, находясь на набережной у областной библиотеки, днепровскими далями. Там, за речными островами простиралась бескрайняя таврическая степь, кое-где виднелась уже буровато-желтоватая листва деревьев, вдалеке – какие-то туманные строения Цурюпинска, а ещё дальше – сероватый горизонт, упиравшийся в синее-синее небо…
Как правило, напоследок, уже идя домой, мы брали в магазине «Таврия» пару бутылок разливного красного вина и чего-нибудь пожевать. Дома Сергей рассказывал о своей долгой и одновременно с тем, очень короткой жизни, строил планы на будущее, делал какие-то предположения… Мы пили вино, и жизнь казалась нам, хотя такой трудной, неоднозначной, порой трагической, но всё-таки чертовски интересной штукой…
Настал день, когда Сергею надо было уезжать в Ивано-Франковск. Я, папа и брат поехали на вокзал. Он сел в поезд. Отец уже не пытался его остановить. Он просто молчал, стоя рядом с составом. Сергей говорил какие-то ничего не значащие, банальные фразы…
– Когда я приеду на новое место, я тебе напишу, папа, – сказал он.
Отец, кажется, и не слушал его вовсе…
Поезд тронулся. Сергей и отец помахали друг другу на прощанье. Потом состав стал набирать скорость… Прозвучал гудок… Толпа, стоявшая у железнодорожных путей, стала постепенно рассеиваться. Мы с папой на перроне остались одни…
|