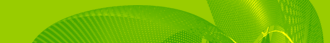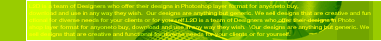* * * * *
Осенью 1991 года в Херсоне организовалось губернское отделение Российского Дворянского Собрания. Инициатором сознания этой организации стал некто N. Информация о нём была самая неопределённая. Говорили, что он закончил философский факультет МГУ, потом в Москве защитил кандидатскую; много лет с таким образованием был безработным (и это-то при советской власти!), потом пел на клиросе в какой-то церкви в Крыму. После всего этого он очутился в Херсоне и занялся возрождением российского дворянства и дворянского духа в нашем крае.
Г-н N. долго уговаривал моего отца стать вице-предводителем Херсонского губернского дворянского собрания. Папа сначала отказывался. Время было тогда неспокойное, можно было ждать провокаций со стороны спецслужб. Сесть по политической статье в тюрьму ещё раз ему на старости лет очень не хотелось (папа при Сталине отбыл 8 лет по двум политическим статьям). В конце концов, отец на уговоры будущего предводителя согласился (он был православным монархистом, и такая работа пришлась ему по душе). Произошло учредительное собрание организации, на котором, как N. и предполагал, он сам был избран предводителем, а мой отец вице-предводителем Херсонского губернского дворянского собрания.
Так бывает во многих организациях: руководитель «обитает» в столице и выполняет там представительские функции, а первый заместитель тянет на себе всю работу на рабочем месте. Так произошло и в ХГДС: предводитель ездил по всей территории бывшей Российской Империи, а вице-предводитель руководил Собранием в Херсоне и являлся генератором идей, которые потом с большим успехом присваивались этим странным господином. Кроме того, предводитель всегда был склонен к авантюрам, интригам, каким-то закулисным манёврам, которые вечно выходили боком всем окружающем его людям, только не ему самому. Самое плохое, что из-за этих «левых номеров» страдали и интересы дела.
N. сделал папу щитом, которым прикрывался в своих лично-общественных делах при каждом удобном случае.
– Вы потомок Остославских (громкое имя для Херсона), – говорил он отцу, – Вас хорошо знают в городе, и как врача и вообще, как человека…
После таких откровенных констатаций фактов (впрочем, констатаций приятных, конечно) отец должен был организовывать различные общественные мероприятия: исторические и литературные чтения, лекции на самые разные темы, обязан был лечить каких-то «левых» людей, которых ему подсовывал N.
Папу и дедушку Михаила я очень любил расспрашивать о наших семейных древностях, о предках и о их житье-бытье. Дед, скрытный и сдержанный человек, рассказывал весьма неохотно. От него мне только удалось узнать, что он был царским офицером, участвовал в Брусиловском прорыве, получил два золотых ордена за свои ратные дела. Потом он служил в добровольческой армии Деникина и Врангеля, потом заболел брюшным тифом, и за границу не ушел, хотя два его родных брата (Константин и Николай) иммигрировали во Францию и в Испанию. Папа был куда более откровенен. От него-то я и узнал практически все те истории о предках, которые хранит моя память сейчас. Помню, отец рассказывал, что мой прапрадед Иван Семёнович Остославский был очень богатым по меркам Херсонской губернии человеком, обер-бургомистром нашего города и основателем Херсонского общественного банка.
Мой прадед отец Василий Корнильевич Фролов относился к прихожанам своей церкви, расположенной в селе Старая Збурьевка, по-особому. Бывало, придёт к нему какой-нибудь крестьянин и попросит (по-украински):
– Отець Василій, дайте мені, будь ласка, трошки борошна, бо діти голодають!
Батюшка Василий никому и никогда не мог отказать – давал съестное, делился с людьми провиантом, хотя у самого была большая семья, и сам, бывало, он умирал с голоду. За такое человеколюбие он не раз получал серьёзные выговоры от своей матушки (жены) Анны Ивановны Остославской. Анна Ивановна говорила ему не раз:
– Василий, ты всё людям раздаёшь, а мы-то сами, что есть будем!?
На что батюшка Василий говорил ей только одно:
– Что Бог даст!
Крестьяне села Старая Збурьевка, где он более сорока лет отслужил настоятелем, отзывались о нём, как о святом человеке. Я когда-то знал одну старую крестьянку из этого села (Раису Яковлевну, продававшую молоко на базаре) которая не уставала повторять, каким отец Василий был «золотой души человеком, добрым к людям и праведным».
Папа рассказывал, как умер отец Василий Фролов. В 1946-1947 годах на Херсонщине был большой голод. Тогда как раз папины предки продали за мешок муки одну из трех квартир, в том доме, где я с родителями прожил много лет. Василий Корнильевич умер от недоедания. Он добровольно отказался от пищи в пользу своих детей и внуков. Поступил он благородно, конечно, но, с другой стороны, ему так надоела жизнь со всеми её горестями, страданиями, человеческой подлостью и грязью и постоянной борьбой с себе подобными за место под солнцем, что смерть показалась ему не такой ужасной, как жизнь…
Мой любимый предок в детстве – Иван Иванович Остославский. Его портрет висел в моей комнате на самом видном месте. Иван Иванович был блестящим русским офицером. Такие понятия, как офицерская и дворянская честь, долг, мужество, воинская доблесть всегда были для него самыми важными в жизни. Он имел оглушительный успех у женщин, но никогда не пользовался им в своих целях. Он носил острые «гусарские» усы, такие же, какие я потом видел у г-на Ладыженского, который приезжал к нам из Московского Дворянского Собрания. «Когда я вырасту, – думал я, – обязательно отпущу себе такие усы!» Нравились мне они до ужаса!
Иван Иванович Остославский был дружен с академиком Филатовым. С этим выдающимся врачом и учёным он познакомился в церкви. Они всегда стояли рядом друг с другом на богослужении и имели одного духовника. Интересно, что академик Филатов, несмотря на свою естественнонаучную направленность, был глубоко верующим человеком. Медицина отнюдь не сделала его атеистом.
Рассказы о предках поддерживали во мне мечтательность и придавали жизненной силы. Я понимал: если предки могли быть такими умными, развитыми и благородными людьми, значит, и я смогу таким стать. Я настраивался на всё хорошее и переключался на современность.
* * * * *
В херсонском Гидромете я проучился два года и благополучно ушел оттуда с простой, ничего не дающей мне справкой. Однако, время, проведённое в этом учебном заведении, было очень счастливой порой в моей жизни. Я был юным, влюблённым в жизнь и, главное, в самого себя, человеком. Моя утонченность являлась для меня великим счастьем.
У папы был научный руководитель его кандидатской диссертации профессор Александр Сергеевич Новохатский. Как-то он познакомил нашу семью со своим хорошим другом американцем Эриком Альбертовичем Хирстом. Эрик Альбертович в годы войны был переводчиком с немецкого на английский в американской армии, подполковником. Участвовал в 1944 году в десантировании войск США на Сицилию. В мирное время он тоже занимался изучением языков. К нам он приезжал, будучи уже доктором английской филологии и профессором какого-то университета в Америке. Доктор Хирст очень помог нам в трудные годы. Если бы не его доллары и продуктовые посылки, уж и не знаю, писал бы я сейчас эти строки…
Как-то к нам в Херсон приезжала моя троюродная тётя по отцовской линии Валентина Ивановна Остославская, которая жила в Москве. Она разыскала нас через Херсонский краеведческий музей. О существовании московской ветви рода Остославских мы, конечно, знали, но последние несколько десятилетий чисто теоретически. До меня только доходили глухие слухи, что в Москве у нас есть родственник: профессор Иван Васильевич Остославский, который когда-то переехал в столицу нашей Родины из Мариуполя (а в Мариуполь переселился его отец Василий Иванович Остославский из Одессы и Херсона). И вот мы увидели своими глазами представителя этой московской ветви, дочь И.В. Остославского Валентину Ивановну.
Она произвела впечатление очень волевой, умной, деятельной, стратегически мыслящей женщины. Валентина Ивановна много рассказывала о своём отце и вообще о своих московских родственниках, говорила, что сама она стала химиком, кандидатом химнаук, что муж у неё тоже химик, доктор наук, профессор, и, что она с ним уже много лет состоит в разводе. Говорила она и о своём сыне Иване (Корнилове), который учился одно время в МФТИ имени Баумана, но потом бросил занятия, и пошел работать простым машинистом в метро.
Валентина Ивановна Остославская по линии Ольги Епифановны Иващенко, которая приходилась ей двоюродной бабушкой, была родственницей знаменитого профессора психологии и философа Георгия Ивановича Челпанова. Челпанов был известен тем, что являлся основателем Московского психологического института и борцом против марксизма в советской психологии.
Валентина Ивановна говорила, что поддерживает тесные отношения с Московским Дворянским Собранием. Её там принимают, ведь её дед Василий Иванович Остославский выслужил себе потомственное дворянство по ордену святого Владимира 3 степени, да и по материнской линии она тоже из дворян.
Тётя Валя (как я её пытался называть) была старше моей мамы. Я привык к людям такого возраста, и поэтому мне было с ней общаться, в общем, не тяжело, даже, несмотря на её весьма бойцовый и авторитарный характер.
Помнится, Валентина Ивановна много рассказывала о своей закадычной подруге, внучке известного детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, Елене. Елена Чуковская окончила химический факультет Московского Государственного Университета. Там тётя Валя с нею и познакомилась, и подружилась. Эта дружба оказалась весьма долговечной – длинною почти в целую жизнь.
* * * * *
Мы с папой несколько раз вместе ездили в Одессу по его врачебно-научным делам. В институте имени Филатова он защитил кандидатскую диссертацию по офтальмологии. Произошло это в 1980 году. Но после этого папины связи с институтом не были разорваны, и в 90-е годы он постоянно общался с тамошними медицинскими и научными «светилами». Жили мы всегда на квартире или на даче у наших старинных знакомых – у Светланы Мироновны и Виталия Никоновича Ивановых. Мама Светланы Мироновны Инна Александровна Готлиб познакомилась с моей бабушкой Юлией Васильевной Фроловой ещё во время революции. Видимо, их породнили и общие взгляды на жизнь, и схожесть социально чуждого происхождения… Инна Александровна была потомком князей-старообрядцев Димитровых и дворян Херсонской губернии Комарницких, так что они нашли друг в друге родственные души.
Когда в дом одесских Ивановых приезжал папа, Виталий Никонович говорил со свойственным ему одесским юмором: «Все ребяты – кандидаты!» Он был кандидатом технических наук, его супруга - гидро-метеорологических, а мой отец – медицинских.
Светлана Мироновна любила поговорить о старой дореволюционной жизни. Хотя сама она эту жизнь не застала (родилась в 30-е годы), но много слышала от матери. Отец её был бывший купец первой гильдии, еврей по фамилии Готлиб. За него Инна Александровна вышла замуж уже при советах, когда все его миллионы были отняты большевиками. Хотя его коммерческие способности при новой власти не могли получить дальнейшего применения, зарабатывать на жизнь для семьи он всё равно умел.
Семью Готлибов знали и Остославские. Их свела Одесса. Иван Иванович Остославский жил там со своей женой Евгенией Леопольдовной Роде в доме на улице Преображенской (Пушкинской?). Их соседкой была Инна Александровна со своим семейством. Через Ивана Ивановича бабушка Юля, по-видимому, и познакомилась с нею и с её дочерью Светланой. Я когда-то был во дворе того дома, где жили все эти люди. Мы с папой зашли туда как-то. Дом был полутораэтажным, с длинной застекленной всплошную верандой, с большими окнами и, видимо, высокими потолками.
Как-то мы с отцом стояли на остановке в Одессе на одной из станций Большого Фонтана. Мы ждали транспорт. Вдруг к нам подошла какая-то старая еврейка и спросила:
– И у Вас есть часы?
Папа, будучи в юности жителем Одессы, ответил чисто по-одесски:
– Да, есть.
Потом она спросила опять:
– Так у Вас есть часы?
Папа опять ответил:
– Да, есть.
– И у Вас таки есть часы!, уже теряя всякое терпение, спросила дама через минут десять.
Папа снова ответил ей:
– Да, у меня есть часы.
И только в четвёртый раз одесситка поинтересовалась тем, что ей действительно необходимо было узнать:
– Так скажите, пожалуйста, который час!!!
Мы с папой ещё долго смеялись, вспоминая эту забавную историю.
В те годы у меня была постоянная подруга – Аллочка Юшкевич. Я познакомился с ней в 1991 году, когда она приходила с какой-то запиской от своего отца к моему. Её папа – Алексей Михайлович Юшкевич – был морским офицером. Ходил в своё время на атомоходе «Ленин». Потом вышел в отставку и поселился в Херсоне. Алексей Михайлович страдал частичной слепотой. Лечился у моего отца, кажется, от глаукомы. Со временем они подружились, и Алексей Михайлович со своим семейством стал частым гостем в нашем доме. Его отец был капитаном первого ранга русского Императорского флота, заведовал офицерским собранием в Севастополе. Хотя у семейства Юшкевичей не было прямых доказательств того, что их ближайший предок действительно был капитаном первого ранга (иначе они могли бы претендовать на действительное членство в РДС), всё же в наше Дворянское собрание они были вхожи – на правах друзей и сочувствующих.
Мои отношения с Аллочкой развивались медленно. Она была очень стеснительной девушкой. Мы иногда, в хорошую погоду, гуляли с ней по городу, смотрели, то на вечернее заходящее солнце, то на звёзды. Как-то поцеловались пару раз, но всё это было натужно и неестественно. Она была психологически зажата, а я наши отношения не «форсировал». Она меня, в общем-то, устраивала как друг, а не как женщина.
Кончилась моя с Аллочкой «любовь» тем, что уже после смерти её отца, году эдак в 1995, она вышла замуж за какого-то малознакомого, но весьма предприимчивого человека. С тех пор я виделся с ней очень редко.
* * * * *
Папина квартира представляла собой часть дома. Рядом находился небольшой виноградник, огород и сад. Все технические строения, сам дом и большой одноэтажный каменный особняк, находившийся поблизости, но отделённый от нашей территории забором, некогда представляли собой единую большую усадьбу. Эта усадьба до революции принадлежала нашим предкам – Фроловым. Весь комплекс сооружений был построен Корнилием Александровичем Фроловым около 1870-го года. Мы жили в квартире, где раньше обитала прислуга, а господский дом был занят чужими людьми.
Во дворе усадьбы Фроловых когда-то находился огромный погреб. Он был двухэтажным. Над погребом стоял небольшой сарай, под которым располагалось два подземных яруса, имевших гораздо большую кубатуру, чем сам сарай. Многочисленное семейство Корнилия Александровича Фролова там держало свои съестные запасы. Согласно воспоминаниям предков, там хранилось всё, что могло пригодиться для приготовления снеди большому интеллигентному семейству последней четверти XIX века: свиные окорока, курятина, соленная и свежая капуста, грибы, картошка, варенье, повидло, ну и, конечно же, вино. Когда в семье Фроловых появились собственные земельные угодья, сплошь засаженные виноградной лозой (принадлежали эти угодья Василию Корнильевичу Фролову), в подвале стали храниться вина собственного производства.
Уже при советской власти этот погреб обветшал: стены начали сыпаться. В разных местах кладки возникли опасные прогибы, «пузыри», которые могли обвалиться в любую минуту. Денег на ремонт не было, поэтому Василий Корнильевич принял решение стены разобрать, а камень, из которого они были сложены, продать. Так и сделали. Впоследствии в огромную дыру в земле (метров десять глубиной), которая образовалась на месте погреба стали бросать различный органический мусор. За несколько десятков лет весь мусор перегнил и превратился в превосходный компост. Таким образом, за счёт многодесятилетнего насыпания кухонных отходов, листьев, веток и прочих аналогичных вещей естественного происхождения яма превратилась в небольшой холм. Уже в начале 90-х годов XX века наша семья этот холм разровняла. Там мы посадили помидоры. Первые лет пять наши урожаи были просто-таки фантастическими. Плоды сорта «Розовый Великан» доходили почти до килограммового веса. Размером они были с маленькую дыньку. Помидоровые кусты вырастали выше моей мамы. Упорный труд моих родителей на сельскохозяйственном поприще дал свои прекрасные результаты.
Напротив усадьбы Фроловых, через дорогу находился квартал, принадлежавший когда-то другому нашему предку – Ивану Семёновичу Остославскому. Тремя кварталами выше на той же улице располагался ещё один дом купца Остославского – двухэтажный, с большими окнами и высокими потолками.
Из всех этих многочисленных строений, имевших отношение к истории нашей семьи, самым примечательным было одно – так называемый, «дом-пароход». Один угол его был почти острым – там, где сходились улицы. Противоположная же сторона была необыкновенно широкой и действительно напоминала корму корабля. В общем, дом этот имел, можно сказать, треугольную форму. Знаменит он был тем, что под ним имелся огромнейший подвал. Из этого подвала вели два подземных хода в сторону Днепра. Когда я был ребёнком, старшие мне рассказывали, что один из этих подземных ходов заканчивался тупиком, другой же вёл к реке и заканчивался выходом на берег. Предполагалось, что передвигаясь по этому тоннелю, русские солдаты будут в случае необходимости отступать или, наоборот, нападать на врага, появляясь в самый неподходящий для него момент. «Дом-пароход» строился во время Крымской войны.
В папиной квартире всегда было много картин. Отчасти это объяснялось тем, что многие представители нашей семьи рисовали. Как в художественном музее, на стенах на рыболовных лесках висели картины, написанные моим отцом, дедушкой Михаилом, Борисом Васильевичем Фроловым. Помню одну линогравюру, сделанную, кажется, Валентином Красношапкой (троюродным братом бабушки Юлии). Конечно, имелись и работы, написанные чужими художниками, в основном местными авторами. Папе и маме очень нравились пейзажи Георгия Петрова. Помню его работу: на переднем плане – большой монастырь, на заднем – речные дали, уходящие за горизонт. Над всем этим серо-белые тяжелые грозовые облака, которые как бы рассеиваются и между ними проходят золотисто-белые лучи солнца. Отец об этой работе был высокого мнения. Ещё помню работы Чалого и Машницкого. Самой уважаемой картиной в доме считался альпийский пейзаж в большой овальной раме. Об этой работе было известно, что она выполнена в необычной технике – написана на обратной стороне стекла. Эта вещь была привезена Иваном Семёновичем Остославским из Голландии и датировалась XVIII веком.
В нашей семье всегда было много животных, особенно кошек. Я прекрасно помню наших пушисто-усато-полосатых питомцев тех лет. Папиным любимым котом считался Леопольд (коричнево-камышовой масти). Папа его постоянно лечил, обрабатывал ему медикаментами больной глаз, который Леопольду повредили в драке чужие коты. Помню, как папа постоянно чистил животным уши. Он брал ватные гусарики, пропитывал их спиртом и потом вычищал серу вместе с клещами у всех наших всевозможных альбусов, барсиков, цезарей, мурок, бусек, пушистиков и у прочей четвероногой братии. Я тоже к животным относился с большой симпатией. Моим самым любимым котом был Маркиз. Папа его принес 2001 году с работы – из Украинского Товарищества Слепых, где отец работал врачом. Маркиз был черно-белой и надо сказать очень гармоничной расцветки. По характеру он оказался невероятно добрым и ласковым котиком. Его нрав мне очень нравился. Но, к сожалению, у него оказались слабые почки. Через несколько лет он умер от почечной недостаточности. От него осталась дочка: внешне – копия папочки. Я её назвал в его честь – Маркизой. Характер у неё оказался отцовский – ласковый и компанейский.
Однажды мы решили завести кур. Место им определили в нашем сарае. А началось всё с того, что, кажется, какая-то знакомая подарила маме пару больших цыплят, и предложила их самим зарезать. Отец уже предвкушал, как он будет варить бульон и потом его отведает, но не тут-то было. Мама заявила, что не кому не позволит убивать бедных животных.
– Они такие хорошие, молоденькие – зачем же отнимать у них жизнь! – сказала она.
Потом мама на базаре купила ещё нескольких цыплят. В результате оказалось, что у нас их целый выводок.
Из полутора дюжин кур у мамы было любимых две. Она даже дала им имена: белую курицу звали Катериной, а пёструю огромную Дашей. Они обе были превосходными несушками, и нередко сносили огромные двужелтковые яйца. Эти яйца, как доказательство наших хозяйственных достижений, ещё долго хранились у нас дома в серванте.
К сожалению, мамино увлечение разведением кур кончилось большой трагедией: сначала в курятник забралась ласка и уничтожила нескольких, потом нас обокрали. Так всё куриное поголовье, жившее в нашем доме, пропало.
* * * * *
Любимой темой наших с папой разговоров была, конечно, дореволюционная история нашей семьи. Иногда он рассказывал о своём детстве, о войне, о своей жизни на Западной Украине, но была тема, касаться которой он не любил – пребывание в «местах, не столь отдалённых». Об этом периоде его жизни я только узнал, что в Речлаге, где он провёл большую часть заключения, он работал врачом-окулистом. Среди политических заключённых у него были различные интересные и неожиданные знакомства. В лагерях тогда находилось очень много представителей интеллигенции, царской аристократии, духовенства, богемы, генералитета. Цвет нации прибывал тогда больше за колючей проволокой, чем на свободе. Папа неожиданно для себя познакомился в Речлаге с Лидией Руслановой, которую заключённые попросили спеть песню «Валенки, валенки… »; был там бывший начальник плана ГОЭЛРО, а ещё князь N., над которым зэки-уголовники постоянно издевались, а сотрудники лагерного медпункта его спасали, оформляя на лечение под разными благовидными предлогами.
* * * * *
Для моей семьи праздник 9-е Мая отнюдь не рядовая красная дата календаря. Многие мои старшие родственники участвовали в той войне. Были ранены, награждены. Мне отец рассказывал о войне. Он говорил только о приключениях. А вот о тяжелых или трагических эпизодах почти всегда молчал. Деды тоже об этом мало что рассказывали. Дед Александр вспоминал, как во время войны его сапёрно-строительная бригада, где он был помощником командира по строительной части, попала под бомбежку немецкой авиации во время строительства моста. Какого-то солдата, который залёг в яму вместе с дедом при крике «воздух!», тяжело ранило. Ему почти оторвало ногу. Она была только соединена с туловищем сухожильем. Тот солдат деда стал умолять, чтобы он ему саперной лопаткой это сухожилье перерубил. А дед не захотел. Сказал:
– Доставят тебя в госпиталь и ногу вылечат.
Так и произошло. После бомбёжки этого бойца отправили в медсанбат, оттуда срочно в госпиталь и там ему ногу пришили. Самое важное, что ампутации удалось избежать.
Ещё папа рассказывал, как нашу пехоту подняли в атаку – а отец тогда служил в пехоте как раз – и вот он побежал вперёд с карабином, стреляя на ходу. Начали немцы обстреливать из миномётов. Наши залегли. Потом офицер опять поднял пехоту в атаку. Наши рванули вперёд, но под миномётами много не навоюешь. Папа упал на землю – его отбросило взрывной волной от близкого взрыва. Он почувствовал, что на лице у него что-то мокрое: то ли земля с кровью, то ли ещё что-то. Он провёл рукой по лицу, а потом посмотрел, что у него оказалось в ладони. Это были чьи-то мозги... Мина точно попала в голову бойцу, который лежал метрах в десяти от моего отца...
Потом он рассказывал, как за ним гонялся "Мессершмит". Папа видел лицо немецкого пилота: такая злорадная ухмылочка… Папа один и "Мессер" один. Между ними дерево. Папа прячется за деревом, а "Мессер" его облетает вкруговую и бьёт из гашетки. Кончилась эта история тем, что пуля рикошетом от асфальта попала отцу в запястье руки. Получилось ранение. А ещё была у него история после разминирования немецкого минного поля. Группа из восьми сапёров во главе с капитаном Крезом, который выдавал себя за белоруса, но все знали, что он немец, обезвредила мины противника, сделав небольшой проход для движения нашей пехоты и танков. Чтобы не болтаться под ногами у пехоты и не дай бог под гусеницами у танков, сапёры решили свернуть резко в сторону, пройдя по своему же проходу в сторону противника. А в той стороне как раз был большой хвойно-лиственный лес. Дело было в Польше. Идут они по лесу. Впереди раздаётся канонада, значит там наши. Ну, думают, скоро выйдем к своим. Ну, а что значит в лесу гулять? В общем, заблудились. Идут, а куда сами не знают. Никаких компасов и карт с собой нет. Еда через пару дней кончилась. Стали есть какие-то ягоды, искать грибы. Думали, дичь подстрелить, но зверья никакого не было. Вдруг слышат впереди треск немецких "Шмайсеров". Видят из-за бугра: немецкая пехота бежит от кого-то. Крез командует:
– Без приказа не стрелять!
И восьмёрка сапёров залегла. Немцы их увидели, постреляли в их сторону для приличия и дальше побежали. Их там была примерно рота. Если бы сапёры, открыли огонь, их бы немцы раздавили, как мух. Потом сапёры нашли на большой поляне какой-то польский фольварк, то есть усадьбу. Не очень большой деревянный дом и несколько сараев. Решили там переночевать. Поставили на ночь часового. Вдруг ночью пожар. Горит фольварк. Все наши стали оттуда выскакивать. Кто поджёг дом, осталось загадкой. Так бродили наши восемь сапёров где-то с неделю по этому лесу. Идут как-то по тропинке гуськом. Вдруг слышат откуда-то издали окрик:
– Стой! Кто идёт?!
Капитан Крез кричит:
– Свои!
Голос издалека кричит:
– У нас нет своих! Пароль какой?!
Капитан Крез называет.
Пароль оказывается столетней давности, но их всё равно пропустили. Они случайно вышли в расположение своего же батальона.
Комбат встречает всех по очереди.
Каждого обнимает. Сначала капитана, ротного Креза, потом старшего лейтенанта, взводного командира Ламитошвили, потом шёл папин приятель Яшка Аразов, старшина, который под самый конец войны получит полный бант ордена «Славы» – все три степени. Потом шли сержанты, потом рядовые, в том числе и отец. Комбат думал, что они погибли. Но они выжили. Для всего батальона была радость.
Помню такую зарисовку. Капитан Крез лежит в своей землянке, а землянка старший лейтенанта Ламитошвили находится рядом. Крез кричит:
– Старший лейтенант Ламитошвили, зайдите ко мне!
А Ламитошвили был лет пятидесяти человек, бывший председатель колхоза где-то в Грузии, у него больные ноги и идти куда-то ему совершенно не хочется, поэтому на приказ командира роты он не реагирует.
Крез опять кричит:
– Ламитошвили, зайдите ко мне!
А в ответ – тишина...
Товарищ Ламитошвили, будьте так любезны, зайдите в мою землянку!
А в ответ – снова тишина...
Через некоторое время раздаётся богатырский ор Креза:
– Ламитовшвили, (дальше следует не переводимая игра слов из фронтового фольклора), срочно ко мне!!!
Ламитошвили вскакивает, на ходу поправляет ремень и портупею, влетает в землянку ротного и докладывает:
– Товарищ капитан, старший лейтенант Ламитошвили по Вашему приказанию прибыл!!!
В роте стоит гомерический хохот...
Потом судьба старшего лейтенанта Ламитошвили сложилась трагически: он потерял обе ноги. Потом был награждён орденом «Боевого Красного Знамени», и его списали в тыл.
Папа был в Восточной Пруссии. Там он вместе с солдатами своего сапёрного батальона вошёл в какой-то замок. Старинный и большой, этот замок был по-своему очень красивый. Только красота его была какая-то тёмная, суровая, мрачная.
Когда папа ушёл на фронт, его матери бабушке Юле, приснился Николай Угодник. Он ей сказал, что её сыну будет на войне очень тяжело, но что, в конце концов, всё кончится хорошо, он останется в живых. Так оно и произошло.
Рассказывал папа, как ему довелось увидеть командующего Первым Белорусским фронтом, в составе которого он служил. Командующим тогда был маршал Советского Союза Жуков. Его дивизию построили в четыре шеренги. Папа стоял в четвёртой, самой задней. Видит, к краю строя подъехал легковой автомобиль, адъютант открыл дверцу и из машины вышел человек очень широкий в плечах, но не очень высокий. Это был Жуков. Когда Жуков, обходя дивизию, приблизился к отцу, он смог мельком разглядеть его лицо. Лицо у маршала Жукова было с грубыми чертами. Оно, казалось, было вытесано топором. Очень жесткий, суровый, необычайно волевой человек, источающий невероятную энергию. Он был каким-то просто ядерным реактором. Воля и мощь воплоти. Жуков перекинулся парой слов с командармом 5-й удармии генерал-лейтенантом Берзариным, сел в машину и уехал. Больше Жукова папа никогда не видел.
Во дни, когда советская армия освободила в 1944 году от немцев Одессу, с бабушкой Юлией (она тогда жила именно в Одессе) произошла такая история. Как-то поздним вечером в окно её квартиры кто-то постучался. Было темно и очень тревожно. Она толком не знала, что происходит в городе и чьи войска в данный момент в нём господствуют. А может в окошко стучат мародеры или бандиты? Она не подошла к окну. Постучали ещё раз. Потом она услышала, что кто-то говорит по-русски. Некий мужской голос, обращавшийся, видимо, к ней, произнёс:
– Эй, хозяюшка, открывайте! Дайте воды и поесть чего-нибудь!
Тон, в котором была произнесена эта фраза, был очень настойчивым и решительным, но вместе с тем, в голосе чувствовались какие-то нотки интеллигентности, ощущалась правильная русская речь.
Бабушка Юлия, наконец, решилась подойти к окну и посмотреть, кто стучит. Она зажгла свечу и, отодвинув штору, посмотрела за чёрное стекло, в темень. Увидев что-то или кого-то в окне, она только смогла воскликнуть:
– Наши пришли! Белые…
Она тотчас от переизбытка чувств потеряла сознание и упала на пол.
Как выяснилось в последствие, в советской армии годом раньше ввели погоны. Бабушка увидела за окном офицера с золотыми погонами, которые тускло мерцали, отражая свет свечи. Она приняла его за офицера русской белой армии, ведь ещё со старых времён было хорошо известно, что погоны носят только белогвардейцы, а у красных в воинских частях звания обозначаются с помощью петлиц с разными геометрическими фигурами, наложенными на них. Бабушка Юля была уверена в тот момент, что она не может ошибиться: пришёл офицер с царскими знаками различия, значит, вернулись белые, свои…
Бабушка Юлия часто поднимала руки к небу и спрашивала голосом, в котором чувствовалась мольба и укор: «Кто отомстит большевикам за поруганную Русь?!» Вопрос этот так и остался без ответа…
Бабушка Юлия Васильевна Фролова часто называла Сергея – своего брата – гениальным, за то, что он блестяще учился в гимназии и институте, прекрасно играл на мандолине и фортепиано, считался красивым молодым человеком и замечательно рисовал маслом. Холсты, написанные им, ещё долго после его смерти висели в семье как единственная память о нём – сыне, племяннике и брате, рано и трагически умершем на чужбине, в эмиграции.
Вообще же, бабушка Юлия Васильевна всегда была в нашей семье источником различных фамильных преданий, рассказов о старине и сожалений о временах её безвозвратно ушедшей дореволюционной юности. Она до конца жизни осталась глубоко верующей православной монархисткой, хотя, конечно, свои убеждения от чужих людей тщательно скрывала, ведь она жила во времена советской власти, которая инакомыслящих, как известно, очень не жаловала.
Она была человеком исключительно добрым, благородным и порядочным. Бабушка Юлия испытала в юности утончённость, подобную той, которая когда-то пришла и ко мне. Она часто вспоминала это сказочное и невообразимое состояние духа, которое присуще только очень не многим людям. Утончённость – фамильная черта Фроловых и Остославских. Кто первый наш предок, испытавший в своей душе это чувство, я не знаю. Многие наши родственники были людьми искусства, так что, с большой долей вероятности можно предположить, что утончённость зародилась в нашей семье, по-видимому, в отдалённые времена.
Бабушка Юля часто и подробно рассказывала моему отцу о старом времени. От него дошли ко мне устные повести о том, как бабушка ходила со своими старшими братьями и сестрой в офицерское собрание. Там происходили различные празднества. Барышень и дам туда пускали только с мужчинами-родственниками, с женихами и мужьями. А однажды в Херсон во время гражданской войны приехал один бывший преподаватель Санкт-Петербургского политехнического института (в этом вузе как раз учился бабушкин брат Сергей). Этот преподаватель во время германской войны стал морским офицером. Он принадлежал к одной очень известной княжеской фамилии, но к какой именно, я не знаю (толи Оболенские, толи Ухтомские – сейчас это установить уже не возможно). Бабушка Юля пользовалась популярностью у мужчин: она была очень красивой, умеющий себя держать девушкой, интересной собеседницей. В неё влюблялись многие местные офицеры и дворяне. Не стал исключением и питерский князь. Он оказывал ей различные знаки внимания, дарил роскошные букеты цветов, по торжественным случаям бывал с нею в дворянском собрании. Когда возникла угроза того, что большевики возьмут Херсон, князь решил на пароходе уйти в Одессу. В Одессе его ждала большая частная яхта, которая вскоре должна была отправиться за границу. Он просил бабушку, чтобы она эмигрировала вместе с ним. Бабушка Юля сначала согласилась, но потом передумала. Ей не хотелось бросать здесь своих родителей. Она решила прийти на пристань, чтобы навсегда проводить возлюбленного в дальние края. Бабушка Юля опоздала, и своего князя в последний раз так и не увидела. Она только издали проводила взглядом пароход, который таял в густом тумане… Через пару дней в газетах появилось сообщение о том, что это судно в лимане напоролось на минное поле и взорвалось. Многие пассажиры погибли, многие пропали без вести. Удалось ли остаться в живых бабушкиному князю, я не знаю.
Когда бабушка вспоминала этот случай, она невольно сравнивала Российскую Империю с древней погибшей цивилизацией, с утонувшей Атлантидой – страной высокой культуры, развитой духовности и трагической судьбы. Как в существование Атлантиды в наше время уже почти никто не верит, так же не знают современные люди и о том, какой на самом деле была старая Великая Россия…
|